Тезисы международной конференции «Маргиналии-2020», 22-24 фев. 2020 в Поленове
* * *
I. Тезисы докладов первоочередных участников
М. С. Антонова (Москва)
Альбом Марии Александровны Власовой
Данный доклад посвящен малоизученному рукописному альбому Марии Александровны Власовой, сестры княгини Зинаиды Волконской. Благодаря оцифрованным фотокопиям, нам удалось дать описание альбому Власовой, который хранится в Хоутонской библиотеке Гарварда в коллекции Волконских [1].
Взаимосвязь вербальных и невербальных составляющих альбома позволяла придать ему разнообразие содержания. Основные виды искусства, задействованные в создании альбома, – это литература, живопись, музыка и фотография. На страницах сборника можно встретить cписки стихотворений, ноты, выдержки из прозаических произведений, литографии с изображением пейзажей, видов культовых мест. Разные формообразующие черты позволяют сопоставлять альбомы с другими жанрами. Авторефлексия и камерность позволяют сравнивать альбом с исповедальными записями, обозначение даты и места – с путевыми дневниками и хрониками, списки стихотворений – с альманахом.
Запись, представляющая наибольший интерес, вписана в альбом Власовой Н. В. Гоголем: “Как ни глуп Индейской петух…” Благодаря работе Баяре Арутюновой и Роману Якобсону [2] становится ясно, что данный текст не просто «литературная безделица», шутливый прозаический текст, а самостоятельное литературное произведение.
На страницах альбома можно найти записи всех членов семьи Волконских, включая Владимира Паве, а также А. Мицкевича, И. Мятлева, С. Шевырева и других. Особый интерес представляют рисунки З. Волконской, ранее не опубликованное стихотворение Шевырева «Кружимся с вами в вальсе шумном» и нотные автографы композитора Луиджи Орсини, а также рисунки других авторов.
Отдельно стоит сказать о странностях, связанных с альбомом Власовой. В течение четырех последних лет оттуда пропали три вклеенных автографа, среди которых рисунки З. Волконской и В. Пио и автограф Александра Никитича Волконского. Еще до поступления в Гарвардский архив из альбома также пропал рисунок Федора Бруни с шаржированным изображением Гоголя.
Альбом Марии Власовой - замечательный памятник культуры XIX века, в котором зафиксированы важные моменты из жизни семьи Волконских и проиллюстрированы вкусы и хозяйки рукописного сборника и ее окружения.
Источники:
1. Houton Library, MS Russian, 46.7.
2. Roman Jakobson and Bajara Aroutunova. An unknown album page by Nikolaj Gogol. Harvard Library Bulletin, 1972, July, vol. XX, no 3, pp. 236–254.
Антонова Мария Сергеевна
соискатель на звание кандидата наук (окончание аспирантуры - 2019 г.)
Филологический факультет МГУ им. Ломоносова, кафедра истории русской литературы
М. В. Ахметова (Москва)
Покров Богородицы, Фридрих Энгельс и ангелы: вариативная ойконимия и мерцание мотиваций
В 1931 г. город Покровск (на тот момент столица АССР Немцев Поволжья, до 1914 г. Покровская Слобода; сейчас город Энгельс Саратовской области) был переименован в честь одного из основоположников марксизма и получил название Энгельс. На излете советской эпохи внутри локального сообщества возникла дискуссия о возвращении городу исторического имени, отразившаяся в том числе в местной печати. В качестве аргументов приводились как типичные для подобных ситуаций тезисы о необходимости восстановить досоветский опыт, так и специфические суждения, связанные с собственными именами, которые легли в основу прежнего и нынешнего названий (во-первых, дискредитация Фридриха Энгельса, которому приписывались славянофобские высказывания; во-вторых, связь исторического названия с покровом Богородицы). Однако на референдуме в декабре 1996 г. 61,19% участников проголосовали за сохранение названия Энгельс (вероятно, существенную роль сыграл экономический фактор — опасение издержек для городского бюджета, которые повлечет переименование города). Вопрос был снят с городской повестки, но до сего дня он время от времени поднимается отдельными представителями сообщества.
Впрочем, в настоящее время едва ли можно говорить о каком-либо существенном конфликте по этому поводу; наоборот, имеет место ситуация параллельного сосуществования официального названия Энгельс и исторического Покровск. В то время как первое занимает заслуженное место в документации, второе обильно представлено, например, в локальных эргонимах. Оба ойконима мирно соседствуют в разного рода презентационных и рекламных текстах, на титульных страницах местных изданий, перемежаются в СМИ и произведениях местных авторов, в том числе в виде Энгельс-Покровск или Покровск-Энгельс (вместо дефиса может стоять тире). Для именования местных жителей в СМИ параллельно используются номинации покровчане и энгельситы.
Анализ энгельсской печати 1990—2010-х годов и интервью с жителями города (полевые записи 2019 г.) позволяет выделить ряд экстралингвистических факторов, поддерживающих подобную двойственную номинацию.
1. Актуальность и ценность для локального фонового знания исторических коннотаций, связываемых с обоими ойконимами (например, с Покровском / Покровской Слободой ассоциируются «архаичная» досоветская/довоенная эпоха и творчество местного уроженца Льва Кассиля, прославившего Покровскую Слободу в «Кондуите и Швамбрании»; с Энгельсом — достижения советской эпохи, знаменитый военный аэродром, поволжско-немецкая автономия и травматическая память о ее ликвидации и т. д.).
2. Культурная политика местной администрации в сочетании с религиозными практиками разной степени институализованности, которые актуализируют локальную значимость покрова Богородицы (празднование Покрова на общегородском уровне как «именин города», особенно в 1990-е годы; крестные ходы на Покров; обращение к богородично-покровскому топосу местных литераторов и т. д.).
3. Переосмысление официального названия Энгельс через номинацию ангел (от неофициального именования города наподобие Лос-Энгельс до музейного проекта «Город ангелов»), игровой характер которого, безусловно, осознается, но которое как будто нивелирует «советские» коннотации официального ойконима, наделяя его сакральной семантикой, позволяющей конкурировать с таковой у ойконима исторического.
Ахметова Мария Вячеславовна
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Н. А. Белякова (Москва)
Маргиналы & честные труженики? Репрезентация советских баптистов в официальном фильме 1970-го года
В рамках конференции я предлагаю обсудить фильм «Евангельские христиане-баптисты в СССР», снятый в 1970 г. по заказу ВСЕХБ (официальное описание письма можно посмотреть здесь: https://www.net-film.ru/film-6837/). Общая продолжительность фильма – 30 минут. Евангельские христиане баптисты были маргиналами «в квадрате» в Советском Союзе: во-первых, они открыто провозглашали свои религиозные убеждения в «безрелигиозном» обществе, во-вторых, принадлежали к конфессии меньшинства, обозначаемой в публичном и бытовом контексте как «сектанты». В ходе Второй мировой войны легализуется структура для разнородных общин, называющих себя и евангельские христиане, и баптисты, и христиане веры евангельской, и христиане евангельской веры, и меннониты, и единственники, и христиане- трезвенники. Религиозный центр – ВСЕХБ – стал своеобразным зонтиком, собравшим под свое крыло разных маргиналов и преследуемых христиан. Однако фильм не показывает маргиналов и страдальцев. Он показывает переполненные красивые церкви с верующими разных полов и возрастов, показывает активные общины с торжественными богослужениями. Зачем был снят этот фильм? Какой месседж он доносит до зрителей, какой аудитории он адресован? Какую функцию выполнял эти фильм и какие пласты информации считываются из него из разных перспектив? В фильме есть несколько пластов, которые я хочу проанализировать из моей исследовательской перспективы: повседневности городских евангельских сообществ рубежа 1960-70-х гг. и как она соотносилась с «дипломатическими функциями» церковного руководства, и перспективы Холодной войны и «западной аудитории», которой официально этот фильм адресовался.
С коллегами-специалистами по гимнографии хотелось бы обсудить музыкальное сопровождение фильма и особенности хорового репертуара, показанного в фильме; с искусствоведами – визуальный ряд обрядов.
Такой необычный источник как «официальный» фильм о жизни маргинальной деноминации представляется перспективным для обсуждения в аудитории специалистов по маргиналиям из разных гуманитарных наук.
Белякова Надежда Алексеевна
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН
Д. В. Валуев (Смоленск)
«Простите за прямоту моего письма»: Н.Н. Воронин и И.Д. Белогорцев – история взаимоотношений по материалам переписки
Важнейшим видом источников для истории любой науки является переписка между учеными. При этом, большой интерес вызывают письма корифеев научной мысли, живших и работавших в столицах, своим коллегам, трудившимся на периферии и, ответы последних. Данный материал предоставляет порой уникальные возможности для реконструкции образа среды и времени, в которых трудились деятели науки. Даже такой вид посланий, как поздравительные открытки, при всей кажущейся ограниченности их текстов, может содержать интересную и оригинальную информацию. Ярким подтверждением вышесказанного служит переписка между двумя исследователями древнерусской архитектуры – Н.Н. Ворониным (1904-1976) и И.Д. Белогорцевым (1911-1996).
Игорь Дмитриевич Белогорцев родился в Барнауле. Получив разностороннее образование, работал на различных должностях в планировочных, строительных и архитектурных организациях в Якутске, Барнауле, Новосибирске. Одновременно вел широкую преподавательскую деятельность. Занимался научными изысканиями в области фольклора народов севера и истории русской архитектуры. В 1943 г. защитил диссертацию на степень кандидата архитектуры. В конце 1945 г. он был направлен в Смоленск. Здесь он возглавил отдел по делам архитектуры при облисполкоме. Также читал учебные курсы в строительном техникуме и педагогическом институте.
Находясь в Смоленске, Белогорцев активно занялся научной деятельностью. Он изучал памятники архитектуры разных эпох. Белогорцев проводил и археологические работы, с целью исследования развалин памятников древнерусской архитектуры. Им было опубликовано большое количество статей и несколько книг, посвященных памятникам зодчества Смоленщины. Он также подготовил к печати монографию «Древнее Смоленское зодчество». Однако она так и не была опубликована.
В 1956 г. И.Д. Белогорцев переехал в Минск. Он преподавал в Белорусском политехническом институте, одновременно являясь заместителем директора Института градостроительства и архитектуры Академии наук БССР. После открытия в Бресте в 1966 году инженерно-строительного института Игорь Дмитриевич был назначен его ректором. На этом посту он работал до 1980 г. С 1981 г. он был профессором Минского института культуры.
После кончины И.Д. Белогорцева его личный архив был передан на хранение в Белорусский государственный архив научно-технической документации (БГАНТД). Среди документов фонда Белогорцева имеются материалы переписки с известными деятелями советской науки и искусства. Особый интерес представляет переписка с профессором Николаем Николаевичем Ворониным, который с первых послевоенных лет проявлял большой интерес к памятникам древнего Смоленска. В 1962-1967 гг. он возглавлял Смоленскую архитектурно-археологическую экспедицию. Благодаря её трудам удалось детально изучить как уже известные памятники средневекового Смоленска, так и выявить ряд новых, ранее неизвестных. По итогам работ были выпущены две монографии, посвященные смоленскому зодчеству и монументальной живописи XII-XIII вв.
Письма и открытки, направленные Ворониным Белогорцеву и ответные послания позволяют нам лучше представить атмосферу, в которой работали исследователи древнерусской культуры в 1950-70-х годах. Изучение этих документов и введение их в научный оборот, способствует появлению новых штрихов к портрету Н.Н. Воронина, и помогает обозначить то достойное место, которое по праву занимают в изучении наследия Древней Руси такие скромные труженики, как И.Д. Белогорцев.
Валуев Демьян Валерьевич
кандидат исторических наук, доцент Смоленского
Государственного университета
О. Н. Виноградова (Вологда)
Роман Л.Н. Толстого «Воскресение» как призыв автора к маргинализации
Роман Л.Н. Толстого «Воскресение» – маргинальное произведение.
Это можно доказать, предприняв междисциплинарное исследование романа на границах с философией, богословием, историей, социологией и физиологией.
Исходя из утверждения М.М. Бахтина о том, что в основе жанра «Воскресения» находится «идеологический тезис», изучать роман целесообразно как изложение истины писателя в контексте литературоведческих, философских, социальных и религиозных вопросов.
Синод в 1901 году огласил отпадение Льва Толстого от Православной Церкви. При изучении романа «Воскресение» в соотнесении с Евангелием обнаруживается, что Л.Н. Толстой дает свое понимание христианских заповедей: понимание, по духу противоположное учению Христа.
Замысел Толстого при создании романа «Воскресение» – проповедать читателям свою истину, которую, как полагал писатель, он постиг, а также своего Бога, который занимает центральное место в раскрытии замысла произведения.
Бог для Толстого в романе – Любовь, которая Всё во Всём, а люди – формы существования любви. Любовь для Толстого – прежде всего любовь к врагам.
Образ проститутки Екатерины Масловой в «Воскресении» Толстой трактует как образ Христа «очеловеченного», на что указывают факты и события из биографии героини, соотносимые писателем с искушениями, распятием и воскрешением Христа. На примере жизни Катюши писатель утверждает свое учение о свойствах Бога.
Образ Нехлюдова – образ ученика Христа, становящегося на место учителя. На примере Нехлюдова писатель дополняет сведения о Боге социальными тезисами, понятными из контекста; призывает строить Царствие Божие на земле.
Парадигма образов арестантов в «Воскресении» призвана закрепить понятие бога Л.Н.Толстого; арестанты – частицы Бога и пронизаны Духом Бога; так как Все во Всём, никто не вправе противопоставлять себя другому и судить о различении добра и зла.
«Воскресение» – сакральный текст, «евангелие от Толстого», которое может вызывать (и вызывает) оскорбление чувств верующих.
Отрицая в романе необходимость существования церкви и государства (которое невозможно без судебной системы, армии и образования), подвергая сомнению ценности брака, подменяя призыв Христа «не делать зла» на призыв «не сопротивляться злу», Л.Н.Толстой способствовал, как полагают некоторые ученые, революции 1917 года.
«Памятки…» Толстого, содержание которых прослеживается в подтексте романа «Воскресение», признаны в России экстремистским материалом.
Поучение о непротивлении злу насилием – доминанта романа «Воскресение» и доминанта учения Л.Н.Толстого. Если рассматривать мотивы поступков людей в русле учения А.А.Ухтомского, то, следуя своей доминанте, Л.Н.Толстой пришел к доминанте ошибочной, и, более того, способствовал восприятию этой доминанты в обществе.
Виноградова Оксана Николаевна
соискатель, Вологодский государственный университет
Е. А. Володченко (Санкт-Петербург)
Роль рассказчика в «Памяти памяти» М. Степановой
Книга «Памяти памяти» (2017) неоднородна в плане хронотопа и жанровой природы. Выбранные автором Марией Степановой формы повествования колеблются от эпистолярного романа и дневниковой исповеди к искусствоведческому комментарию и философскому трактату с элементами поэтической речи. Полиморфность и фрагментарность произведения обеспечивается в том числе и сложной фигурой рассказчика, который подводит итоги как истории личной семьи, так и мировой культуре XX в. Претендуя на объективность изложения, рассказчик в то же время встает на позицию пристрастного свидетеля или вуайериста, строящего догадки: конструирует исторические реалии, мифологизирует их.
Наследует ли «романс» (самоназванный автором) традициям русской литературы – полифоническому роману и исповедальному тону Ф.М. Достоевского, или критическим запискам А.П. Чехова, или автобиографической прозе М.И. Цветаевой? Как трансформируется жанр исповеди и воспоминаний? В каких аспектах, в какой степени автор проводит параллели с западными претекстами – например, с documentary fiction-романами В.Г. Зебальда?
С применением структуралистского и интертекстуального анализа будет показано, какие цели преследует сумма субъективных точек зрения, как органично переплетаются документальные свидетельства с мифологическими и архетипическими образами и как многомерно отражается в произведении время – индивидуальное, историческое, вечное. В качестве литературоведческой и историко-антропологической основы взяты труды Р.О. Якобсона, Р. Барта, К. Леви-Стросса, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, А.Я. Гуревича, К. Гирца.
Володченко Елена Алексеевна
СПбГУ, магистратура факультета свободных искусств и наук, 1 курс
А. В. Гик (Москва)
Точка зрения в перспективе дневникового текста
Дневник как разговор с самим собой. Дневник как источник информации о внешнем мире. Эти две идеи дневниковых записей: направленность на внутренний мир автора и направленность на внешний мир пересекаются в дневниковых записях М.Кузмина.
Открывая тайники своего сознания, Кузмин «достраивает» образ себя, описывая мнения других людей на те же события. Образ повествователя – Кузмина – получает двойную перспективу – авторскую, т.к. именно он, Кузмин, выбирает из своей памяти нужные, как ему кажется, факты: «Я написал этот дневник, будто он может попасть в чужие руки, но это так и должно, раз это касается не лично меня и не лично других. И притом я пишу так, как у меня запечатлелись впечатления» (5 декабря 1905 г.). Желание описать всё превращается в желание описать не только значимые для него события, а стать летописцем в режиме реального времени, а также создать свой собственный миф: «Но вообще, я человек не очень надежный, и строящего на мне планы я не поздравлю» (21 ноября 1905 года); «Зинаида упрекала меня за свиту гимназистов; хорошо, что есть впечатление свиты. Мне важнее, что говорят, чем что есть на самом деле» (4 декабря 1907 г.).
Эта равноценность фактов описания на шкале значимости, делает записи дневника разрозненными, несвязанными. Такая картина мира, в которой ценностные ориентиры не навязываются, а выстраиваются по мере написания, входит в противоречие с «правильным» дневником. Этот дневник похож на автоматические записи сюрреалистов, капризное чередование фактов политической жизни страны и интимных переживаний не позволяет сомневаться в искренности текста, даже если он предназначен для публичного чтения как художественное произведение. Да, Кузмин устраивал чтение своего дневника («Следующее чтение дневника Сомову и Нувель тоже произойдет у меня»; 5 май 1906 г.; «Чтение дневника вызвало у В<альтера> Ф<едоровича> замечание, что я пишу менее ярко, чем покуда я не читал, но мне кажется, что это неправда, что такое впечатление оттого, что многое читалось вместе, а не кусочками. Я даже не знаю, почему меня это задело, я редко бывал в таком разложенном состоянии, как теперь». 11 мая 1906 г.).
Небольшие комментарии к происшедшим событиям выдают точку зрения Кузмина на события: «Иногда трудно удержаться, чтобы не поцеловать совершенно незнакомое лицо, как укусил бы персик. Как я хотел бы передать людям все, что меня восторгает, чтобы и они так же интенсивно, плотью, пили малейшую красоту и через это были бы счастливы, как никто не смеет мечтать быть. Я был бы блажен, передав это», 27 августа 1905 года.
Мы не знаем время события. Часто не можем точно отметить порядок следования фактов. Это точка зрения Кузмина. В докладе будут проанализированы частотные слова Дневников 1905-1907 гг.
Дневник 1905 г. Общее количество слов: 23,741; 7,552 уникальных словоформ. Самые частотные слова: очень (126); сегодня (105); потом (69); вечером (68); ли (58).
Дневник 1906 г.: общее количество слов 77,500; 16,155 уникальных словоформ. Самые частотные: очень (441); потом (324); Нувель (219); ли (194); Павлик (183).
Дневник 1907 г.: Общее количество слов: 49,782; 11,876 уникальных словоформ. Самые частотные слова: очень (349); дома (192); пришел (156); письмо (150); потом (149).
Гик Анна Владимировна
кфн, снс, ИРЯ им. В.В.Виноградова РАН
М. В. Головизнин (Москва)
«Живые Будды» Варлама Шаламова и Питирима Сорокина
В переписке, поэзии и прозе Варлама Тихоновича Шаламова периодически встречается несколько необычный на наш взгляд эпитет - «живые Будды» который писатель использует для дефиниции образцов высоконравственного поведения человека, которому необходимо следовать. В частности, в его письме Анне Ахматовой от 1965 г. он пишет: «В жизни нужны живые Будды, люди нравственного примера, полные в то же время творческой силы. Я тоже хочу на своем малом пути доказать, что не всех можно убить». Этот же эпитет присутствует в его стихотворении, посвященном Борису Пастернаку: «Орудье высшего начала,/Он шел по жизни среди нас,/Чтоб маяки, огни, причалы/Не скрылись навсегда из глаз./Должны же быть такие люди,/Кому мы верим каждый миг,/Должны же быть живые Будды,/Не только персонажи книг…». Казалось бы, биография Шаламова – сына православного священника-обновленца, прошедшего в юности через послереволюционные 20-е годы, а в зрелости через колымский ГУЛАГ, распространявшего в 1929 году оппозиционный документ «Завещание Ленина» а в 60-е годы - автора памфлета против процесса Синявского-Даниеля под названием «Письмо старому другу» должна была породить достаточно морально-нравственных ориентиров не находящихся в плоскости «восточной экзотики» к которой писатель, судя по всему, не проявлял исследовательского интереса. В письме своему другу Я.Д. Гродзенскому, Шаламов делает уточнение: «…Роль морального примера в живой жизни необычайно велика. Религия живых Будд, сохранившаяся до сих пор, подтверждает необходимость такого рода примера в живой жизни. Падение общественной нравственности во многом объясняет трагические события недавнего прошлого». Ни в этом письме, ни в других документах писатель не уточняет, что он имеет в виду под религией «живых Будд» (под это определение подходит, например, тибетский ламаизм, в котором высшие иерархи буддистской сангхи объявлялись «перерожденцами» будд и бодхисатв прошлого) и не детализирует, почему существование именно этой восточной религии является для него важным аргументом нравственного совершенствования в мире той культуры, в каком существовал он сам.
Единственный намек, позволяющий объяснить происхождение «буддийских» нравственных императивов Шаламова, содержится в автобиографической повести «Четвертая Вологда» и касается будущего американского социолога с мировым именем П.А. Сорокина, который в годы юности писателя был сотрудником Вологодского общества изучения Северного края, другом и коллегой его отца – священника Тихона. Варлам Шаламов пишет буквально следующее: «Силу освобождения России отец увидел в эсерах – в Питириме Сорокине, земляке и любимом герое отца – по теории «живых Будд» (курсив наш. М.Г.) […] Питирим Сорокин – будущий гарвардский профессор, президент Всемирного союза социологов, историк культуры, создавший многотомную теорию конвергентности. Истоки этой теории уходят в вологодскую глушь». Сам Питирим Сорокин в автобиографической прозе, касаясь истоков своего научного мировоззрения и творчества, подчеркивал, что реалии социальной организации коми-зырян, их самоуправление, «традиционалистский дух взаимопонимания» которые он наблюдал в ранней юности, в «глуши» зырянских поселений Вологодской губернии, где родился и вырос, действительно повлияли на его мировоззрение как будущего социолога. В послевоенные годы Питирим Сорокин создал теорию динамики мировой культуры, где в качестве важнейшего фактора общественного прогресса рассматривалась «альтруистическая любовь» и ее «апостолы» - великие альтруисты – Будда, Христос, Лао-Цзы, махатма Ганди и др. Нам представляется, что шаламовская «теория живых Будд» является кратким переложением «альтруистических учений» Питирима Сорокина. Конечно, встает вопрос, откуда Шаламов мог познакомиться с поздними работами американского социолога, которые в годы его жизни не переводились и не издавались в Советском Союзе, хотя и могли проникать в виде «тамиздата». Но, дело было не только в «тамиздате». В этом отношении нужно сказать, что в отличие от других «буржуазных социологов», научные взгляды Питирима Сорокина (конечно, в критической плоскости) рассматривались в советской научной литературе достаточно детально.
Первая обобщающая статья «Философия истории Питирима Сорокина» появилась в журнале «Новая и Новейшая история» в апреле 1966 года. Автор - молодой тогда ученый Голосенко И.А. вскоре (1967 г) защитил о творчестве П. Сорокина кандидатскую диссертацию, автореферат которой был также в открытом доступе. В 1972 году в СССР вышел учебник «Современная буржуазная философия истории» (автор - Чесноков В.Д.) где научным взглядам П. Сорокина было посвящено 150 страниц. Несмотря на ритуальные характеристики его как «духовного отца русской буржуазии», его теории характеризовались скорее в положительном ключе. Причин тому было несколько. В годы войны П. Сорокин и его супруга активно участвовали в программах помощи народу СССР со стороны граждан США. Но главной причиной была появившаяся в период потепления международных отношений его теория «конвергентности», согласно которой социально-политические системы «Запада» и «Востока» могут иметь тенденцию к сближению, избавляясь от одиозных, изживших себя негативных элементов. Известно, что эта теория, по меньшей мере, до развития «Карибского кризиса» вызывала интерес как в СССР, так и в США. В середине 60-х годов стоял вопрос о визите Питирима Сорокина в СССР, не состоявшийся из-за ухудшения советско-американских отношений. Примечательно, что А.С. Фомин (настоящая фамилия Феклистов) бывший в 1960-64 гг. главой резидентуры КГБ в Вашингтоне, неоднократно встречался с Сорокиным и в своих воспоминаниях, вышедших уже в этом столетии, посвятил ему целую главу под заголовком «Провидец из Винчестера», в которой дает высокую оценку его личности. Как известно, в эти же годы Шаламов работал над «Четвертой Вологдой» был активным читателем Ленинской библиотеки и, скорее всего, не оставил бы без внимания публикации, посвященные известному ему с юных лет Питириму Сорокину.
Вместе с тем параллелизм взглядов Варлама Шаламова и Питирима Сорокина обнаруживает себя не только в указанной выше позитивной «альтруистической» плоскости. Размышления Шаламова о быстрой деградации человеческой натуры в колымском ГУЛАГе: «Человек становился зверем через три недели — при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях» во многом аналогичны размышлениям и выводам Питирима Сорокина, высказанным им в 20-е годы по итогам наблюдения последствий массового голода в Поволжье, которые вошли, в частности, в книги «Система социологии» и «Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь», опубликованные в СССР в начале 1920-х годов. Хотя относительно последней книги есть информация, что ее тираж был конфискован, но, вероятно, не в полной мере, т.к. ее экземпляры имеются в открытом доступе Государственной исторической библиотеки России. Следовательно, они также могли попасть в поле зрения Шаламова вскоре после издания и быть использованы в годы написания «Колымский рассказов».
.
Головизнин Марк Васильевич
К.м.н. доцент МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Член Совета Ассоциации медицинских антропологов
С. Л. Гонобоблева (Ронгонен) (Санкт-Петербург)
Школьный дневник первоклассника 1829-1830 годов
Уроженец Финляндии Эрик Густав Эрстрем известен как автор дневников времен русско-шведской войны 1808-1809, времен войны с Наполеоном 1812-1813, когда Эрстрем-студент путешествовал из Москвы в Нижний Новгород. В 1825 году Эрстрем переехал в Санкт-Петербург и до 1835 года служил пастором Шведского лютеранского прихода Святой Екатерины, жил здесь с женой и детьми.
Четвертый ребенок в семье Эрика Густава Эрстрема и Ульрики Ловисы Альштедт, Карл Густав Эрстрем, родившийся 17 марта 1822 году в Або, оказался вместе с родителями в Петербурге и здесь начал учиться. После смерти родителей он переехал в Гельсингфорс, где окончил гимназию и Александровский Университет. Впоследствии он стал профессором истории Университета (история права и уголовное право), затем секретарем, сенатором, прокурором Финляндского сената.
Будучи профессором Александровского университета, Карл Густав за усердную службу награжден орденом Св. Анны (III степени), затем орденом Св. Станислава II степени за отличное исполнение поручения, касающегося тюрем Великого Княжества Финляндского. В должности сенатора Судебного департамента Финляндского Сената Карл Густав был удостоен за усердную службу ордена Св. Владимира (III степени) и Св. Станислава (I степени).
В Городском архиве Хельсинки в архиве семьи Эрстремов хранится школьный дневник Карла Густава и несколько его писем, адресованных матери, а также старшему брату. Последние написаны после смерти матери в Петербурге.
Трогательное и горестное сообщение 9-летнего сына о смерти матери, адресованное его брату, написано сначала на черновике, потом переписано. Удивительная для маленького ребенка стойкость и умение выразить свои переживания видна в этих текстах. Воспитание и передача особого культурного кода происходили с раннего детства, а личная переписка и архивы хранились в семьях.
Листая дневник, видим, чем был занят семилетний сын главного пастора, как он учился, что его интересовало, какие предметы изучались и в каком объеме. Какие дни недели были заняты учебой, когда ребенок отдыхал. На первых страницах, как и в наше время, дневник заполнен рукой взрослого (но слово ‘праздник’, то есть выходной день всегда написано детской рукой). Уже через несколько месяцев ребенок делает это самостоятельно, хотя и не очень уверенно. Начинающий ученик занимался русским языком, французским, манерами, чистописанием, географией и счетом (арифметикой), а также имел перерыв на игры.
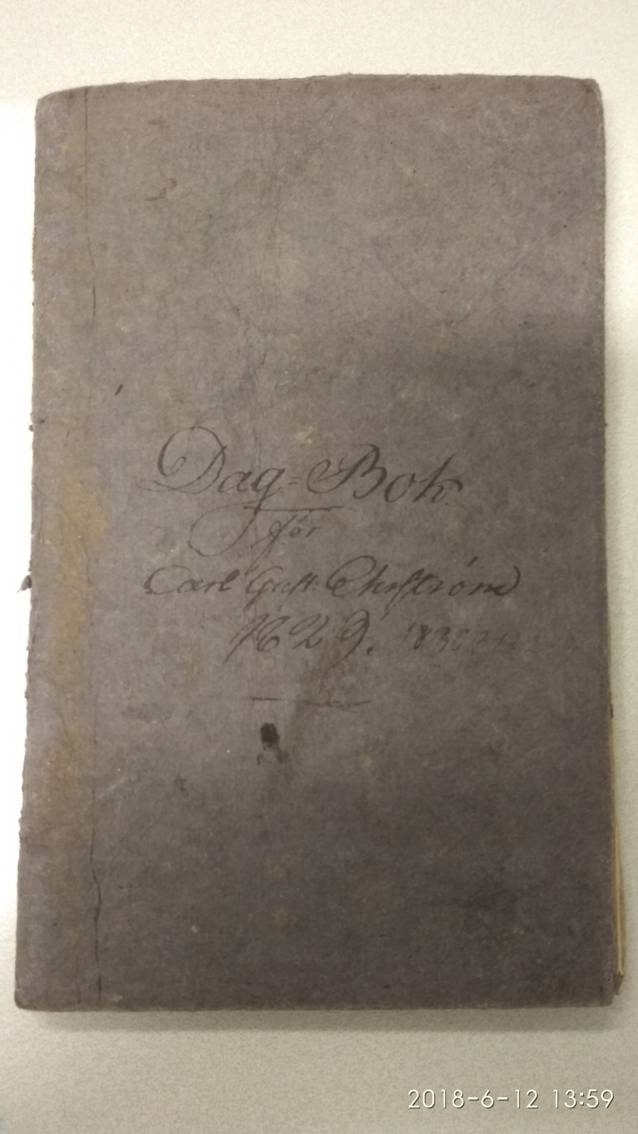
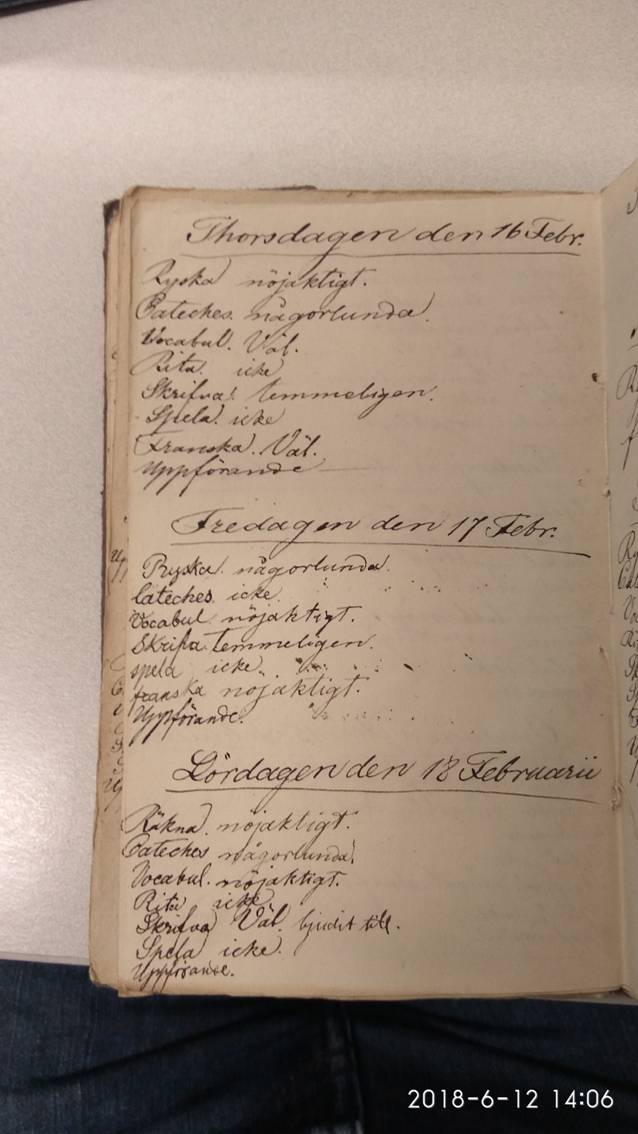
Гонобоблева Софья Львовна
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник СПб ФАРАН
М. А. Графова (Москва)
«Самоновейший оракул» эпохи НЭПа: гадаем на злобу дня
После окончания Гражданской войны перед советской властью стояло много насущных задач. Одна из не самых первостепенных, но все же важных, состояла в том, что людей надо не только идеологически воспитывать и учить политической грамоте, но и развлекать. Для этой цели, в частности, возникло большое количество юмористических журналов. Почти все они перестали выходить на рубеже 30-х годов, осталось только несколько проверенных партийных изданий. Но пока этого не случилось, индустрия развлечений в Советской России эпохи НЭПа была весьма дифференцированной. Популярнейшим развлекательным журналом для деревни был «Лапоть», со специфически большим, для мало- и среднеграмотного читателя, количеством картинок, крупным шрифтом и относительно малым объемом текстов, в сравнении, например, с «Бегемотом», журналом чисто городским. К таким журналам обычно выпускали библиотечки дополнительной литературы, была такая и у «Лаптя». В ее составе в 1928 году вышло уникальное издание, «Самоновейший оракул, или Веселый отгадчик всего задуманного». Чтобы узнать будущее, советскому гражданину предлагалось сложным путем найти ответ на какой-нибудь животрепещущий вопрос из предложенного списка, например, «Скоро ли я попаду под суд?»; «Гнать ли мне самогон?»; «Буду ли я платить алименты?»… Некоторое изумление от этого неожиданного для советской действительности даже эпохи НЭПа документа рассеивается, если найти ему должный типологический ряд: до событий 1917 года в России, да и не только, конечно, издавалось большое количество разнообразных «Оракулов» примерно того же типа, что и наш «Самоновейший оракул» 1928 года. Набор вопросов в старых Оракулах куда разнообразней, хотя тематика сводится в основном к вопросам любовным и матримониальным. Мы попробуем сравнить вопросники и ответы и понять, как в их эволюции выражалась заметная уже в эпоху НЭПа попытка корректировать сферу личной жизни.
Графова Мария Александровна
кандидат искусствоведения, Доцент департамента международных отношений
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, Москва.
С. М. Евграфова (Москва)
Живопись и текст: изобразительные корреляты вербального представления о мире
Изменение полиграфических возможностей, появление онлайн-коммуникации и общедоступной цифровой фотографии и звукозаписи сделали мультимодальность сообщений обыденным явлением. Не вдаваясь в суть дискуссий о право- и левополушарности, можно тем не менее утверждать, что вторая сигнальная система сложным образом взаимодействует с изобразительными коррелятами / изокоррелятами (будем называть их так) картины мира, причем эти изокорреляты гораздо более индивидуальны и меньше поддаются социальному регулированию и нормированию, чем вербальные сигналы.
Изокорреляты многообразны. Автор зафиксировала в ассоциативном эксперименте ответ: мыло – «никаких слов, я вижу мыло в обертках, как в магазине» (относительно устойчивый индивидуальный ассоциат, сосуществующий с именем; по-видимому, той же природы связь сформировалась у автора в детстве: слыша упоминание о Томе Сойере, вижу кудрявого мальчика с картинки из моего детского издания). Ассоциации со словом деньги могут быть и вербальными (работа, запах, тратить, эмиссия, банк, богатство, золото, Marcedes, дипутаты, айфон и др.), и изобразительными (человечек, держащий в руке «бумажки» с буквой S; фирменный значок «Мерседес»; условно нарисованный слиток-прямоугольник с надписью ЗОЛОТО) – это свидетельствует о формировании изокоррелятов – иконических символов в смысле Р. Якобсона – Ч. Пирса (допустимо влияние частотных, социально закрепленных зрительных образов). По данным экспериментального исследования А.В. Дорожкиной, школьники нередко подменяют дефиниции терминов схематически отображаемыми объектами, в которых фиксируются значимые признаки (например, один шестиклассник изобразил земную ось как условный шарик, из сердцевины которого торчит некий стержень; другой нарисовал шарик, опоясанный на некотором расстоянии чем-то вроде овала, ‒ то есть перепутал ось с орбитой); здесь мы наблюдаем изокоррелят-схему.
Функционально изокорреляты могут быть (1) упрощенным образным эквивалентом означаемого, (2) средством передачи информации, в том числе средством коррекции вербальной информации, (3) формой мышления, (4) мнемоническим средством.
Эксплуатация способности человека формировать изокорреляты ведется сейчас весьма активно (реклама, мода на так называемые скетчи, «красивые конспекты», активное использование изображений при обучении детей и проч.), и осуществляется она не всегда разумно, потому что функционирование изокоррелятов изучено плохо.
Особый интерес представляет собой изучение живописи и графики и их отношения с текстом: с одной стороны, существует иллюстрирование текстов (и тогда интересен вопрос о степени творческой свободы иллюстратора, который навязывает свое прочтение текста читателю); с другой – любое самостоятельное произведение живописи или графики представляет собой своего рода высказывание, а иногда и развернутый текст, который может быть интерпретирован совершенно по-разному, поскольку в нем собрано множество изокоррелятов, воспринимаемых по-разному в зависимости от индивидуальных ассоциаций, а также от личного и социокультурно обусловленного опыта.
Интереснейшим объектом для изучения могут стать и рисунки писателей, и мемуары художников, и сопоставление вербальных и живописных текстов (очень интересен опыт сотрудничества Дины Рубиной и Бориса Карафёлова – «Окна», «Больно только когда смеюсь…»), и экспериментальные исследования по восприятию словесно и изобразительно передаваемой информации.
Евграфова Светлана Маратовна
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка
(РГГУ; РАНХиГС)
Е. Н. Зарецкая (Москва)
«Зачем Онегину Татьяна?»
Основной тезис романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина обнаруживается уже в первых строках этого бессмертного сочинения. Обычно на него не обращают пристального внимания: «Всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных». Если проанализировать дворянскую среду XIX века, где семьи были довольно большими, напрашивается следующее заключение: герой романа несказанно богат. И уже в ранней юности он становится обладателем этого богатства. Онегин об этом знает. И дальше перед ним возникает вопрос: что мне делать со своей жизнью, учитывая это богатство? Он мысленно перечисляет всё, что может обеспечить смысл его существования на Земле. Хозяйственная деятельность необязательна. Служба, военная или светская, необязательна. Честолюбия не хватает на навязчивые мечты о славе. Пушкин проводит своего героя через множество соблазнов и как минимум сильных впечатлений: путешествия, смена ощущений, эмоциональный удар убийства, картёжные допинги и пр. Что остаётся герою? Только то, что может составить духовный стимул к саморазвитию. Но для этого нужен талант, в котором Онегину отказывает автор. Он не может попасть «в цех задорный людей, о коих не сужу, затем, что к ним принадлежу». Кроме творчества духовный человек может отдать свои силы науке. Но и здесь нужны талант и дарование. Интересно, что путь духовного просветления, религиозного послушания и служения Господу не рассматривается в контексте героя. В конечном итоге получается ситуация тупиковая: душе на Земле не за что зацепиться. И в этот момент Пушкин протягивает руку своему герою и наделяет его сильной страстью к Татьяне. В этот момент Онегин – полностью сформированная личность, знающая толк в любовной игре, но не знающая любви. Чувство к Татьяне, спасая героя, может быть долгим, и таким образом Онегин может обрести смысл. Что нужно, чтобы чувство Онегина было как можно более долгим, а похоже, что Пушкин этого хочет? Оно должно быть: а) взаимным и б) нереализуемым. Пушкин оставляет своего героя «в минуту, злую для него». А точнее, в счастливую для него минуту – минуту обретения смысла существования. Идея «лишнего» человека находит новую психоаналитическую интерпретацию. Очень трудно жить вне смысла, имея ко всему прочему недюжинное здоровье: «Я молод, жизнь во мне крепка. Чего мне ждать? Тоска. Тоска». Страсть Онегина – это спасительный круг, который бросает Пушкин своему герою. Татьяна не просто нужна Онегину, она нужна ему как воздух.
Зарецкая Елена Наумовна
доктор филологических наук, профессор
заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
РАНХиГС при Президенте РФ
Т. С. Зевахина (Москва)
Русский язык такой, какой он есть: радость бунта (по страницам «Записок психопата» Венедикта Ерофеева)
Старшая сестра Венедикта Ерофеева Тамара Васильевна Гущина вспоминает: «Когда Вене было лет пять, он, примостившись на табурете, что-то строчил в тетради. Его спросили, что он пишет, последовал моментальный ответ: ”Записки сумасшедшего”». Прошло 12 лет и появилась рукопись семнадцатилетнего студента МГУ «Записки психопата» с подзаголовками I и IV частей «Записки сумасшедшего». Рукопись была оставлена Ерофеевым на хранение у Владимира Муравьева с предупреждением, что это не для печати. После смерти автора Муравьев издает роман, хотя другая сестра Ерофеева – Фролова Нина Васильевна – напомнила Муравьеву о распоряжении Ерофеева. Тот ответил: «А где это написано?» и опубликовал «Записки психопата».
В докладе ставится задача показать, как в романе реализован отмеченный одним из критиков важный для Ерофеева принцип стиля: «радость бунта и экстаз опьяневшего от свободы языка». Оксюмороны (очаровательная пьяная скотина) и антитезы (Сегодня – я сын алтайских степей и игнорирую первые февральские бураны!) сменяются бранью и полусонным бредом. Интерес к самому себе – самый острый: тут и самохарактеристики и характеристики со стороны друзей (Веничка – милый, милый ребенок, противный негодяй, гений и бездарный идиот; квинтэссенция, апофеоз и абстракция человеческой лени). Подчиняясь радости бунта, автор дневника начинает исповедовать принцип «odi et amo». Это относится ко всем окружающим, но в первую очередь к Лидии Александровне Волошниной и Антонине Григорьевне Музыкантовой и – к собственной матери. На страницах романа прямо утверждается, что «ты точно никогда не определишь слова, которое выражает “отрасль” твоего душевного». И, может быть, «любить» то же самое, что «ненавидеть». В недавнем интервью сестры Венедикта Ерофеева – Нины Васильевны Фроловой – автору доклада прозвучали существенные уточнения, касающиеся их родителей. Их мама Анна Андреевна Гущина, родившаяся в селе Елшанка Сызранского района Симбирской губернии, воспитывавшаяся вместе с четырьмя своими сестрами под влиянием священника местного храма Ивана Архангельского, имела возможность пользоваться его обширной библиотекой и была прекрасной рассказчицей, последнее, видимо, сыграло свою роль в отношении Венедикта к литературе. Поэтому «экстаз опьяневшего от свободы языка» при ее описании в дневнике неуместен. И отец – Василий Васильевич Ерофеев, незаслуженно отсидевший в сталинских лагерях четыре года, всегда держался с достоинством и не разделял страсти сына к выпивке.
«Радость бунта» в повествовании сменяется меланхолией, тихой музыкой, слезами, утверждением, что он сам – человек, «у которого каждое психологическое состояние сопровождалось и выражалось внутренней музыкой». Появляются строчки: «Невыносимо тоскливо. Наверное оттого, что вчера весь вечер слушал Равеля».
Дополнительно был применен автоматический анализ текста дневников, что сделало картину «радости бунта» еще более наглядной.
Таким образом, язык выплеснулся на страницы «Записок психопата» таким, каким он и был у семнадцатилетнего автора конца 50-х годов прошлого века.
Зевахина Татьяна Сергеевна
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
кафедра теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ
Д. И. Зубарев (Москва)
Нечто о девяти пешках
В третьей главе романе Владимира Набокова "Дар"(впервые опубликован в 1937-38 г.г.) есть такой микросюжет. Главный герой, живущий в Берлине молодой писатель-эмигрант и любитель шахматной композиции, однажды покупает в газетном киоске номер "советского шахматного журнальчика" "8х8". Познакомившись с содержанием соответствующего раздела "журнальчика", он остался им недоволен: "... в одном из советских произведений (П.Митрофанов, Тверь) нашёлся прелестный пример того, как можно дать маху: у чёрных было д е в я т ь пешек" (Набоков, как и его герой, прекрасно знали, что в шахматной партии, как и в шахматной задаче, позиция с девятью чёрными или белыми пешками является абсолютно невозможной, так как в начальной позиции у каждой стороны имеется по восемь пешек и ни одна другая фигура в пешку превратиться не может).
Ни Набоков, ни читатели и комментаторы его романа не знали, что в начале 1930-х, в СССР, малоизвестная поэтесса Серебряного века, графиня и дочь жандармского генерала, уже написала стихотворение "Девятая пешка" и хотела его опубликовать в своём сборнике стихов на шахматную тему, предложенном московским издательствам (он увидел свет только в двадцать первом веке). В докладе предпринята попытка разобраться, в чём смысл (или бессмыслица) понятия "девятая пешка", и найти шахматные позиции, где она представлена на доске.
Литература
Набоков В. Дар. - Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1952.
Долинин А.Комментарий к роману В. Набокова "Дар". – М.: Новое издательство, 2018.
Гр. Нина Подгоричани. Чётки из ладана. Шахматные стихи / Сост., подг. Текста и примечания А.Р. Кентлера и В.В.Нехотина. - М., 2015.
Зубарев Д. "8х8", или "Чернышевский и шахматы" (из комментариев к набоковскому "Дару". 1-2 // Philologica. 1999/2000. Т.6. №14/16.- С.99-108.
Зубарев Дмитрий Исаевич
историк, филолог, пенсионер
член НИПЦ «Мемориал», член Мандельштамовского общества
автор 70 работ (сборники, статьи, комментированные публикации)
по русской истории и культуре ХХ века
М. Ю. Игнатьева (Оганисьян) (Москва-Барселона)
Агония христианского мира: от Иоанна Креста до Кальдерона
«Крайне трагичны наши распятия, наши испанские Христы на кресте.
Это культ Христа агонизирующего, а не мёртвого».
(Унамуно. «Агония христианства»)
Открытие новых земель подготовило закат христианского мира, на смену которому пришло понятие Европы. Я попробую восстановить один из литературно-исторических сюжетов этого сложного процесса, чьи сегодняшние последствия могут показаться этапами того же перехода от старого мира к новому, не до конца раскрытому и понятому.
Тереза Авильская и Иоанн Креста, основатели ордена босоногих кармелитов (женской и мужской его ветвей) мечтали об участии в миссионерском подвиге. Любовь ко Христу, напрасно агонизирующему на кресте, вызывала у них потребность немедленно действовать, чтобы спасти Его, агонизирующего в непросвещённой душе. Это хорошо видно на примере стихотворения Иоанна Креста «Пастушок». Здесь Иоанн Креста использует технику дивинизации: он переписывает пасторальный романс на божественный лад, вкладывая в любовные стихи благочестивое содержание. Практика художественной дивинизации будет продолжена и переосмыслена через сто лет в контексте завоевания нового пространства, уже не светски-любовного, но языческого — в единственной американской драме Кальдерона де ла Барка, «Заря Копакабаны».
Героем этой драмы является реально существовавший новообращённый индеец Франсиско Тито Юпанки (1550 – 1616). Согласно преданию, ему было видение Прекрасной Дамы с младенцем на руках, после чего он вырезал её статую из дерева. В пьесе Кальдерона перед нами дивинизация, освящение пространства языческой Америки. Солнце инков это Христос, языческий праздник — это отсвет христианского Благовещения, дерево – крест. Иоанн Креста, как мы видели, возвышал пасторальную картинку, возводя её на духовный уровень и завоёвывая светскую поэзию. Кальдерон отвоёвывает персонажей-язычников у Идолатрии (так зовут персонажа, символизирующего идолопоклонничество), здесь речь идёт не столько об отмене ложного содержания, сколько о просвещении его истинным смыслом.
Разница между Иоанном Креста и Кальдероном велика. Иоанн переписывает чужие стихи, добавляя к ним что-то своё, а Кальдерон создаёт совершенно оригинальную драму. Иоанн сочиняет «домашнее» произведение, адресованное монахиням, его духовным дочерям, а Кальдерон пишет из профессионального долга — для двора и церкви. Однако обоих писателей вдохновляет мечта о том, что крестом возможно не только победить, но и преобразить существующий мир, который либо уже забыл Бога, как легкомысленная пастушка забыла своего возлюбленного, либо ещё не познал Его, как невежественный индеец, поклоняющийся солнцу. Созданные в этом поле произведения стремятся к общей цели исправить и вразумить, успокоить бурю страстей, затемняющих понимание истины.
Деятели последних десятилетий «христианского мира», совпавших с началом духовного освоения новых земель, проходили свой путь открытия Америки: от сочувствия к непознанному Богу до просвещения нового мира. Язычество на новом континенте было сродни светской литературе на старом — здесь требовалась та же работа по одухотворению иного, непрояснённого содержания. Было пролито немало пота и чернил для того, чтобы перевести профанное в божественное, языческое в христианское, чтобы просветить и старые, и новые земли. Это был особый «агонизирующий», в унамуновском значении, период литературы, стремившейся завоевать как можно больше территории для Бога, потому что Бог уходил всё дальше. На пороге уже стояло новое Просвещение, и другие, не похожие на Юпанги, индейцы приплывали к берегам старой Европы.
Вот уже сходит с корабля вольтеровский гурон Простодушный. Он прибывает во Францию, чтобы разоблачить, раз-божествить дряхлеющую Европу с её забавным лицемерием и расчётливой набожностью. «Голова юноши была не покрыта, ноги обнажены и обуты лишь в лёгкие сандалии, длинные волосы заплетены в косы, тонкий и гибкий стан охвачен коротким камзолом. Лицо его выражало воинственность и вместе с тем кротость». Это было лицо Нового времени.
Игнатьева (Оганисьян) Мария Юльевна
кандидат филологических наук
доцент Государственной школы иностранных языков (Барселона)
Ю. В. Кагарлицкий (Москва)
Море и утес: к происхождению русской охранительной метафорики
Доклад ставит своей целью уточнить происхождение одного образа, известного нам по русской политической поэзии консервативного направления. В сентябре 1848 г. В.А. Жуковский публикует в «Санкт-Петербургских Ведомостях» стихотворение «К русскому великану». В этом стихотворении он обращается к персонифицированному образу России, непоколебимо стоящему среди бушующего океана. Эта картина, разумеется, представляет собой метафору — метафору политической стабильности России на фоне революционной Европы: «Стихи Жуковского, вызванные февральскими революционными событиями 1848 г., воспевают оппозиционность России к революционному Западу, ее монархическую устойчивость»[1]. Стихотворение привлекло внимание, его перепечатали «Северная пчела», «Русский инвалид», «Москвитянин». Ф.И. Тютчев использовал ту же метафору в своем стихотворении «Море и утес», опубликованном полностью лишь в 1851 г. в «Москвитянине», однако, по всей вероятности, написанном в том же 1848 г. под влиянием Жуковского. Во всяком случае, он, вероятно, принимал участие в редактировании стихотворения «К русскому великану» для «Северной пчелы»; о недовольстве Жуковского этой редактурой, приписанной им П.А. Вяземскому, пишет в комментарии Ф.З. Канунова[2]. В «Москвитянине» авторский вариант был возвращен, тогда как Тютчев сразу после стихотворения Жуковского напечатал свои стихи, представлявшие собой последнюю строфу стихотворения «Море и утес».
Если исходить из того, что Тютчев написал свое стихотворение под впечатлением от стихотворения Жуковского, образ России-утеса, о который разбиваются волны бушующего океана мятежной Европы, позаимствован оттуда же. Разумеется, за этой преемственностью образов стоит глубокое родство взглядов Жуковского и Тютчева на европейскую революцию 1848 г. Есть, однако, еще один автор и еще один текст, который использует тот же образ и, вероятно, мог бы стать источником для Жуковского (и соответственно, для Тютчева). Я имею в виду митрополита Филарета (Дроздова) и его «Слово в день рождения… Николая Павловича» того же 1848 г.
В этом слове, сказанном в Успенском соборе 25 июня (ст.ст.), Филарет описывает, в частности, последствия пагубного, по его мнению, отказа европейских народов от монархического принципа: «Не возлюбив свободно повиноваться законной и благотворной власти царя, принуждены раболепствовать пред дикою силою своевольных скопищ. Так твердая земля превращается там в волнующееся море народов, которое частию поглощает уже, частию грозит поглотить учреждения, законы, порядок, общественное доверие, довольство, безопасность»[3]. Затем он противопоставляет этому хаос страну, где царит порядок: «Но благословен Запрещающий морю (Мф. 8:26)! Для нас еще слышен, в событиях, Его глас: До сего дойдеши и не прейдеши (Иов 38:11). Крепкая благочестием и Самодержавием Россия стоит твердо и спокойно, подобно каменной горе, у подножия которой сокрушаются волны моря»[4]. Сходный образ присутствует и в «Слове по прочтении Высочайшего Манифеста…» архиепископа Иннокентия (Борисова), сказанном еще в марте; однако там противопоставлены гора и буря[5], а не гора и море; у Филарета же присутствуют все компоненты картины, которую находим у Жуковского и Тютчева: ярящиеся волны, непоколебимая каменная гора (утес), о которую бессильно разбиваются эти волны. Сходство фигур, используемых проповедником и обоими поэтами, кажется разительным; между тем оно как будто до сих пор никем не отмечалось. Предположить, что Филарет был знаком со стихами Жуковского или Тютчева хронологически невозможно, поэтому можно предположить, что Жуковский был знаком с текстом проповеди (она неоднократно издавалась, например в июльском номере Журнала Министерства Народного Просвещения[6]; однако установить знакомство с этими изданиями Жуковского, в принципе, по-видимому, интересующегося выступлениями Филарета, пока не удалось), либо что проповедь и стихотворение имеют общий, неизвестный нам претекст, либо, наконец, что этот образ изобретен проповедником и поэтом независимо или, так сказать, носился в воздухе. Во всяком случае, к моменту публикации стихов Жуковского и Тютчева этот образ уже существовал в русском охранительном, антиреволюционном дискурсе.
Кагарлицкий Юрий Валентинович
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Института русского языка
им. В.В. Виноградова РАН
А. Л. Касаткина (Москва)
Джон Фишер в научной литературе: «консерватор-маргинал» и «гуманист-просветитель»
Джон Фишер (1469 — 1535) был канонизирован Католической Церковью как мученик за веру. Показательные суды над наиболее видными представителями оппозиции Генриху VIII, лордом-канцлером Томасом Мором и епископом Рочестерским Джоном Фишером, и последующие их казни навсегда связали этих двоих в сознании историков и непрофессионалов, осмысляющих ту эпоху. В этой паре Фишер всегда оказывался в тени Мора, воспринимался как аскетичный прямолинейный клирик, сильно уступающий в обаянии по сравнению с остроумным жизнелюбивым мирянином.
На формирование мифологизированного образа Фишера сильно повлияли историки XIX века, обесценивавшие его позицию, что часто приводило к обесцениванию всей личности Фишера в текстах дилетантов. Мария Даулинг, автор монографии о Джоне Фишере, во вступлении делая обзор касающихся его исследований, пишет, что его репутация наиболее сильно пострадала в работах учёных, связанных с либеральной идеологией вигов и рассматривавших историю как прогрессивный процесс: в их глазах, быть на «проигравшей» стороне в таком событии, как английская Реформация, означало попросту быть неправым.
Обобщая, можно сказать, что мифологизированная таким образом персона Фишера ассоциируется с чем-то старым, уходящим, отжившим, и негибким, суровым, упрямым. Это хорошо узнаваемый архетипический образ «старика». Параллельно с литературой, маргинализировавшей Фишера и обесценивавшей его деятельность, существовала агиографическая струя, к которой Мария Даулинг причисляет и некоторые работы, написанные на достойном научном уровне. Например, это вполне фундаментальный труд Рейнольдса, он грешит тем же способом мифологизировать Фишера в положительном ключе, который свойствен агиографии: епископ изображён человеком без недостатков на фоне всеобщих «лжи, крючкотворства, спеси и конъюнктуры». Сама же книга Марии Даулинг, а также исследования Эдварда Зуртца, Ричарда Рекса и Сесилии Хатт очевидным образом отталкивающиеся от этой традиции и стремящиеся к чисто научному подходу, стремятся сохранить объективность, но мне представляется, что элемент мифологизации также присутствует в большинстве современных научных книг о Фишере. Педалируется «прогрессивность» Фишера (мифологизирующее слово и архетипическая черта) и его близость гуманистам и особенно Эразму. Фишер превращается прежде всего в человека книги, его личные интеллектуальные достижения и стремление к совершенствованию Церкви через просветительскую деятельность (которое может также выглядеть как стремление к модернизации) перестают быть факультативным украшением святого мученика, но выходят на первый план. Архетипический образ «учёного» или «оратора» становится ведущим в изображении личности Фишера. Подчеркивается энергичность, проявленная Кембриджским канцлером при расширении влияния университета и внедрении в нём гуманистического образования, «the new learning» (само это тогдашнее выражение, будучи употреблено сейчас, невольно архетипизирует деятельность Фишера и делает его модернизатором по преимуществу).
Таким образом мифологизаторские тенденции в научной литературе о Джоне Фишере претерпевают кардинальные изменения: из характеристик Фишера уходят символы «старика», и заменяются символами архетипа «героя» аполлонического толка.
Surtz, E.L., The Works and Days of John Fisher, Cambridge, Mass., 1967;
Rex, R., The Theology of John Fisher, Cambridge, 1991;
Dowling, M., Fisher of Men: a life of John Fisher, 1469 – 1535, NY, 1999
The English works of John Fisher, Bishop of Rochester (1469-1535): sermons and other writings, 1520-1535/ edited by Cecilia A. Hatt, Oxford, 2002
Касаткина Анна Леонидовна
преподаватель кафедры классической филологии
Института Восточных Культур и Античности РГГУ
И. Б. Качинская (Москва)
СТАРЫЕ ДЕВЫ И СТАРЫЕ ПАРНИ (по материалам архангельских говоров)
С терминами родства тесно соотносится лексико-семантическая группа, связанная с половозрастной номинацией, а также группа, связанная с определением социального статуса. Все, что считается нормой, имеет высокий социальный статус. Это замужние женщины и женатые мужчины, дети, рожденные в браке. Нормальной считается ситуация, когда женщина и мужчина хорошо выполняют свои функции в браке, т.е. заботятся друг о друге, о детях, о доме, о престарелых родителях, когда женщина живет в доме мужа. Все, что противоречит норме, получает отрицательную оценку. Соответственно низкий социальный статус в традиционной культуре имеют люди, не состоящие в браке (по разным причинам), т.е. одинокие мужчина и женщина: старые девы и холостяки, вдовы и вдовцы, разведенные супруги; внебрачные дети; дети, потерявшие или не имеющие родителей (или одного из родителей), т.е. сироты; бездетные супруги; женщина, родившая вне брака; женщина и мужчина, плохо выполняющие свои функции в браке (плохие родители, плохие супруги - например гулящие, пьющие); муж, пришедший жить в дом жены.
В докладе будет рассмотрена номинация и мотивация номинации старых дев и холостяков, т.е. людей, которые никогда не выходили замуж / не женились; выходили замуж не вовремя, т.е. позже срока, считавшегося «нормой».
Для номинации девушки, вовремя не вышедшей замуж, в архангельских говорах зафиксировано около 20 лексем и около 30 атрибутивных сочетаний. Соответственно для обозначения холостяка также зафиксировано около 20 лексем и 15 словосочетаний. Обращают на себя внимание параллельные наименования: старая (престарелая, пожилая) дева ~ старый (пожилой) парень, старуха, старица ~ старик, старец; перестарок – и для мужчины, и для женщины; холостовка, холостячка ~ холостяк; бобыль ~ бобылка. Но параллелизм этот может быть чисто внешним. Потому что, когда речь идет о холостом мужчине, имеется в виду, как правило, ЕЩЁ не женившийся парень, а когда о женщине – как правило, УЖЕ не вышедшая замуж девушка. Смена акцентов оказывается весьма значительной.
Для номинации старой девы используются те же лексемы, что и для номинации собственно девушки в брачном возрасте: дева, девица, девичушка, девка, девочка, девушка: Она у нас не выходила, она девушкой дак жила. Слово, имеющее прямое значение в группе половозрастной номинации, получает иное значение, переходя в лексико-семантическую группу «Социальный статус».
Те же лексемы могут использоваться и в других значениях, например ʼженщины, родившей вне бракаʼ: Девица – замужем не была, а двое детей у неё.
Мотивацией для появления лексем, обозначающих старую деву, могут явиться словосочетания или фразеологизмы: замуж не вышла = невыхожая девушка; век в девках сидит = вековуша, вековуха или посиделка, дева-посидела, девка-посиделка, посидельница, старая посидельница, засиделка, заседатель. Продолжает косу плести (как это положено девушке) - косоплётка, старая косоплётка, старокосая, девка старокосая. Старая дева = старица, старуха, перестарок.
Парень, который долго не женился, холостяк – старый парень, перестарок: Говорят, перестарки, с годов ушли. Семён, ужо сорок, перестарок. Старый парень – это неженатой, так старый парень. Разведенный мужчина вновь мог получить статус холостяка.
Отношение к старым девам отразилось в пословицах: Где есть козёл да стара девка есть – там чёрта нет. Стара дева да осённа муха – злее нет.
Качинская Ирина Борисовна
кфн, м.н.с. каф. русского языка филологического ф-та МГУ
Е. И. Кислова (Москва)
"Апробация" проповедей во второй половине 18 века: к истории контроля стиля и смыслов
На протяжении 18 века правительство и Синод всячески поощряли духовенство к произнесению проповедей. Однако был ли контроль над устными выступлениями в церкви? В докладе на материале архивных и опубликованных источников будет рассмотрен вопрос о том, как происходила "апробация" проповедей во второй половине 18 века, каких аспектов текста она касалась и насколько свободны были проповедники в риторическом творчестве.
"Духовный регламент" в части, посвященной контролю проповедей, не содержал каких-то конкретных указаний, ограничиваясь вопросом отбора проповедников: к проповеди допускались священники, учившиеся в Академии "и от Коллегиум Духовнаго свидетельствованные". В части содержания проповеди рекомендованы были самые общие темы: "...о покаянии, о исправлении жития, о почитании властей..., о должностях всякаго чина; истребляли б суеверие; вкореняли б в сердца людския страх Божий; словом рещи: испытовали б от Священнаго Писания что есть воля Божия, святая, угодная и совершенная, и то б говорили". Отбор проповедников некоторым образом гарантировал качество и "благонадежность" произнесенных проповедей.
С конца 1730-х гг. Синод рекомендовал "иметь надзирание" над проповедниками целому ряду лиц: ректору, префекту "и протчим учителям", а также "соборным протопопам, старостам поповских и десятильных церквей священникам" (Указ Синода от 21 августа 1738 г.); указом 19 ноября 1742 г. присмотр поручался архиереям и «Духовной Дикастерии» (так в документах того времени называли духовные консистории). Есть отдельные свидетельства проверки придворных проповедей до их произнесения, однако члены Синода были от нее освобождены.
Во второй половине века мы регулярно находим в рукописных сборниках пометы при непридворных проповедях, которые свидетельствуют не только об их публичном прочтении в церкви в тот или иной день ("говорено в Успенском соборе публично, 1788" - РГБ ф. 299 д. 386 л. 135), но и об их проверке до произнесения различными ответственными лицами, например: "Говорено в Архангельском соборе, где служил преосвщенный Феофилакт переславский, которую брал на апробацию к себе протоиерей Петр Алексеев того же собора 1776 года" (РГБ ф. 299 д. 386 л. 25). В сборнике проповедей из собрания Костромской семинарии, составленном священником Никифором Зыриным, мы находим помету, которая показывает, что при определенной степени доверия священник мог быть освобожден от подобного надзора: "1787 г авг. 4 дня его преосвятительство Павел епископ словесно благоволил уволить меня от того чтобы зависеть в проповедях аппробациею от других. подписал троицкий иерей Никифор Зырин" (РГБ ф. 138 д.250).
Какой именно была функция предварительной "апробации" текстов? У нас крайне мало информации об этом, однако сохранившийся сборник московских проповедей последней четверти 18 века свидетельствует, что правка текстов была скорее стилистической, нежели идеологической, например: "чтобы с любезным предметом пребывать совокупно" > "неразрывно"; "слово божие иисус облекается в телесную робу" > "на вретище плоти человеческия"; "либо в честь ангела своего торжествуют" > сверху исправлено на "ликуют", на полях на "отправляет торжественно". Возможно, общая тематика и направление проповеди обсуждались заранее устно.
Идеологические вопросы возникают чаще всего по доносам - как реакции на уже произнесенные тексты и фиксируются в различных разбирательствах на самых разных уровнях. Таким образом, за идеологической и духовной правильностью проповедей на финальном этапе надзор активно осуществляла сама общественность.
Кислова Екатерина Игоревна
кандидат филологических наук
доцент Филологического факультета МГУ
С. А. Кожина (Москва)
Проблема пространства в философско-теоретических работах Д. Годровой
Характерной чертой научного дискурса в XX в. становится междисциплинарность, стремление привлечь для анализа объекта исследования методы различных научных направлений. Работы в области литературоведения также на протяжении всего столетия в значительной степени были отмечены меж- и интердисциплинарностью, а позднее и трансцисциплинарностью.
В 1960-е гг. особое место в развитии литературоведения сыграли работы о мифопоэтике произведений, анализе представленных в них символов с архетипической семантикой. Данной теме в чешском литературоведении были посвящены работы К. Крейчи начала 1960-70-х гг., на которые опиралась в начале исследований и Д. Годрова. В своем труде «Роман-посвящение» (Román zasvěcení) (1993/2014) она рассматривает специфику формирования и развития жанра романа-инициации в европейской литературе. Данный текст представляет собой междисциплинарное исследование, синтез литературоведческого анализа, социологического наблюдения, философского труда и художественного произведения (что характерно для большинства философско-теоретических работ Годровой). В нем Годрова при помощи диахронного метода анализа материала переосмысляет путь формирования художественной условности произведения: представляет его как логический процесс вычленения из синкретического сознания субъективного повествования – вербализацию мифа и его дальнейшую перцепцию. Продолжением данной темы стала работа 2006 г. – «Чувствительный город» (Citlivé město), в котором автор распространила свои философские рассуждения на внелитературное пространство.
В труде «Роман-посвящение» опорными пунктами анализа являются тривиальные для литературоведения точки: время, пространство, персонаж. Работа «Чувствительный город» исследует непосредственно процесс выстраивания так называемого «нарратива города», отображение городского пространства в произведении, и рецепцию данного повествования читателем. В своем докладе мы остановимся на проблеме пространства, рассматриваемой Годровой под различными углами зрения.
Пространство в «Романе-посвящении» для Годровой становится способом актуализации архетипических представлений человечества. В данном труде при характеристике пространства прослеживается несколько ключевых линий: анализ пространственных дихотомий, перемещение персонажей (временные дихотомии), символы. В «Романе-посвящении» Годрова характеризует любое знание с двух точек зрения: внешней – экзотерической, и внутренней – эзотерической. Инициация, процесс перехода, таким образом, может представлять собой не только переход между различными эксплицитно выраженными в тексте пространствами, но и процесс перехода между внутренней и внешней сторонами знания.
В «Чувствительном городе» Годрова также проводит грань между «Текстом города» (фактически существующим городом, представленном в тексте) и «городским текстом» (городом, существующим лишь в художественной реальности), где ключевым становится (как и в «Романе-посвящении») размытость этой грани и процесс ее пересечения. Здесь Годрова стремится к разрушению границ между написанием и прочтением, между порождением текста и его рецепцией, что становится следующим шагом для писательницы в исследовании существования текста как средоточия архетипических представлений.
Кожина Светлана Анатольевна
младший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)
О. Н. Колышева (Москва)
Дневники «детей войны» как часть наивной языковой картины мира
Междисциплинарные гуманитарные исследования последних лет демонстрируют интерес к личной, персональной истории, через которую преломляется история страны, народа и его культуры.
Материалом нашего исследования являются дневники «детей войны» как часть наивной картины мира рядового носителя русской культуры. «Дети войны» - это особое поколение, не воевавшее на фронте, но ставшее свидетелями Великой Отечественной войны.
Дневники «детей войны» - это мнемонические тексты, содержащие информацию о военном времени, о детских переживаниях и отражении войны в детском сознании. К сожалению, нет методологии работы с такими текстами. Наша исследовательская задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, предложить такую методологию как одну из возможных, учитывая специфику дневниковых текстов, а с другой стороны, продемонстрировать реконструкцию и репрезентацию фрагмента языковой картины мира свидетеля военных действий. Когда мы говорим о войне, то в голову сразу приходят «высокие» слова: победа, патриотизм, подвиг народа. Но это слова официальной истории войны. История «снизу» была совершенно другой. Это не история «сверху» и постфактум, а история, рассказанная ее очевидцами и участниками, и в этом заключается культурологическая ценность исследования.
Для достижения исследовательской задачи мы привлекли метод текстового ассоциативного поля (далее ТАП), впервые предложенный Ю.Н. Карауловым применительно к анализу художественного текста. Однако разработанные Ю.Н. Карауловым методологические принципы могут быть успешно применены и к анализу мнемонических текстов, содержащих мгновенную реакцию на описываемые события Великой Отечественной войны. Являясь одной из форм представления знаний о мире, ассоциативное поле может стать источником информации, скрытой от читателя в процессе чтения обычного линейного текста. Ассоциативный анализ позволит вскрыть повторяющиеся семантические смыслообразующие закономерности в организации текста и увидеть механизм функционирования языковой способности, так как ««за каждым текстом стоит не только система языка, но и языковая личность».
Материалом для анализа послужил дневник 15-летнего Юры Рябинкина, который он вел в блокадном Ленинграде в течение полугода, с 22 июня по 6 января 1942 года. Благодаря методу ТАП представляется возможным выделение и построение текстовых ассоциативных полей (ХЛЕБ, РАБОТА, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, МАМА), которые позволяют узнать подробности о жизни Юры. Для каждого поля были построены и выделены семантические гештальты, когнитивная интерпретация которых (с привлечением культурологических и исторических источников) может дать нам больше информации и чувствах, жизни детей того времени.
В анализируемом дневнике все выделенные ассоциативные поля взаимосвязаны между собой. Это является подтверждением того, что разрушение линейного текста дает тоже текст, но уже в виде когнитивной ассоциативной структуры – текстового ассоциативного поля. Такой вид представления материала помогает увидеть скрытые на первый взгляд от читателя и автора смыслы и проследить их реализацию на всем протяжении текста. Подробный комментарий нескольких семантических гештальтов позволяет увидеть темы, которые лейтмотивом проходят через весь дневник.
Таким образом, полученные результаты позволяют нам, с одной стороны, реконструировать фрагмент языковой наивной картины мира автора дневника и описать переживания мальчика, его мысли, важные для него события, а с другой стороны, – картину блокадного Ленинграда.
Колышева Ольга Николаевна
Российский университет дружбы народов
Ассистент кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН
П. В. Королькова (Москва)
Глаголица как средство национальной идентичности в современной хорватской культуре и литературе
В докладе речь пойдет о формах присутствия глаголической письменности в повседневной жизни современных хорватов, о ее значении в формировании национального самосознания и идентичности, а также об особенностях обращения к глаголическому алфавиту как культурному коду в литературе Хорватии.
С одной стороны, глаголица не присутствует и вряд ли когда-либо будет претендовать на то, чтобы занять место в коммуникативной практике хорватов. Она не используется в качестве письма, а глаголические буквы и надписи в форме граффити, памятников (последние особенно характерны для региона Истрии и Кварнерского архипелага), табличек (в том числе на официальных учреждениях) и т.д. воспринимаются исключительно как картинки, обладающие эстетическим и символическим значением, но не вербальная информация, то есть тексты в прямом смысле слова. На это указывает и заметное количество очевидных ошибок, допущенных при создании глаголических памятных табличек (в том числе даже на здании филологического факультета университета города Дубровник). С другой стороны, национальным сообществом, безусловно, признается роль глаголицы как социально-культурного наследия, поскольку она концептуализирует определенную идентичность, связанную со спецификой исторического, религиозного и языкового развития. Так, существует целый ряд памятников глаголическим буквам, к которым постоянно организуются школьные экскурсии, сопровождаемые интерактивными играми.
В коммерческой сфере (сфере производства сувенирной продукции) после войны 1990-х гг. особая хорватская «угловатая» глаголица стала визуальным кодом культурной и национальной идентичности, брендом Хорватии как государства, в большей степени ориентированным на иностранцев, чем на самих хорватов. Таким образом, можно говорить о процессе «приватизации алфавита», характерном в той или иной степени для целого ряда национальностей, проживающих на пространстве бывшей Югославии (кириллический алфавит для сербов, арабица для боснийцев, «угловатая» глаголица и босанчица для хорватов; к формам проявления той же тенденции можно отнести попытки введения в черногорский алфавит новых букв, обозначающих особые звуки, которых нет ни в одном другом языке на новоштокавской основе).
Кроме указанных выше аспектов, нас интересует также осмысление глаголицы в современной хорватской литературе. Одним из ярких примеров творческого подхода к использованию глаголицы в художественных текстах может послужить творчество современной писательницы Ясны Хорват (романы «Аликвот», «Аз», «Аурон» и др.). В этих интеллектуальных постмодернистских «романах с ключом», снабженных многочисленными иллюстрациями, глаголица становится кодом к расшифровке тайны, предложенной «умному» читателю, а также смысловым центром произведения и лейтмотивом, организующим повествование, героями которого могут становиться представители самых различных эпох.
Королькова Полина Владимировна
к.ф.н., доцент кафедры славистики и центральноевропейских исследований
Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ)
А. Г. Кравецкий (Москва)
Переписка из двух миров: послания царевне Софье Алексеевне
1. В начале XXI века на стене Напрудной башни Новодевичьего монастыря стали делать надписи, обращенные к царевне Софье Алексеевне, которая в свое время была заточена в этом монастыре. В докладе речь пойдет о том, имеет ли культ Софии предысторию, а также о языковых особенностях обращений к царевне Софье.
2. Поскольку имеется свидетельство В.Н.Татищева о том, что противники Петра I организовали своеобразное действо, в ходе которого Софья изгоняла духа из бесноватой (таким образом доказывалось, что настоящим, «природным» царем, которому повинуются не только люди, но и духи, является Софья, а не Петр), можно предположить, что современный культ имеет достаточно старые корни. Однако анализ изданных в XIX в. книг, посвященных истории монастыря и его реликвиям, показывает, что Софьей интересовались любители старины, а не паломники. О предметах, связанных с Софьей, здесь говорится как об исторических артефактах, а не предметах почитания. И в мемуарах, и в литературных текстах, связанных с монастырем (В.П.Гиляров-Платонов, Б.Садовской), отсутствуют упоминания о почитании Софьи.
3. После революции Софья оказалась одним из немногих исторических деятелей из рода Романовых, о которых советская историография говорила с некоторым сочувствием. В 1922 году начал работу «Государственный историко-художественный музей бывшего Новодевичьего монастыря (памятник XVII века)». В мандате, выданном основательнице музея Е.С.Кропоткиной, прямо говорилось, что это будет музей истории монастыря и эпохи царевны Софьи. На всем протяжении существования музея в стенах монастыря рассказ о судьбе опальной царевны являлся основным нарративом. В результате Новодевичий монастырь стал ассоциироваться в первую очередь с именем Софьи.
4. Когда на волне постперестроечного мистицизма начал формироваться своеобразный народный культ Софьи, он плохо соотносился как с историческими реалиями, так и с церковной традицией. Дело в том, что никаких сведений о том, что Софья была когда-либо заключена в Напрудной башне (которую в народе называют Софьиной) нет. Куда более вероятным местом ее заточения являются находящиеся рядом стрелецкие караульни, однако на их стенах не делают надписей, посвященных Софье. Что же касается церковной традиции, то вопрос о канонизации Софьи никогда не возникал. Церковной составляющей в этом культе нет.
5. В своем большинстве авторы посланий царевне Софье считают, что она православная святая. Соответственно, они стремятся к тому, чтобы их тексты были похожи на церковную молитву. А поскольку представления нецерковных людей о том, как устроены тексты молитв, достаточно экзотичны, их творчество носит синкретичный характер. Здесь формулы светского речевого этикета переплетаются с конструкциями, заимствованными из молитвенных формул. Так, авторы посланий стараются вставлять в текст славянизмы, которые играют здесь роль маркеров, демонстрирующих, что это молитва, а не бытовое письмо. При этом большинство посланий оканчивается словом «спасибо», то есть авторы заранее благодарят Софью за помощь. Эта черта характерна для бытовых просьб, а не для молитв. В докладе будет подробно рассмотрена стилистическая и риторическая организация надписей Софьиной башни.
Кравецкий Александр Геннадьевич
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник
Института русского языка РАН им. В.В.Виноградова
Т. В. Кузнецова (Москва)
Клоачный русский: место пересечения границ
1. Само место размещения «провокативных» текстов – социальные сети – вызывает вопросы потому, что предполагает двойственность: оно одновременно закрыто и открыто. Закрыто потому, что, с одной стороны, туда допускаются только «посвященные», друзья; а с другой стороны, добавление в друзья ведь формальность, оно осуществляется вне всяких фильтров. Имена подразумеваемых нами фб- и твиттер-авторов привлекательны для самой широкой аудитории. Поэтому среди «друзей» не может не возникать поляризации мнений и острого разномыслия по самым разным вопросам.
2. Один из самых волнующих вопросов – вопрос о языке. Мы были свидетелями вынесения на общественное обсуждение проекта орфографической реформы, которое так всколыхнуло широкие массы, что вопрос о реформировании был отложен. Граница, отделяющая научное сообщество от широких масс, которые ощущают себя, да и являются хозяевами языка, явилась во всей очевидности.
3. Ситуация окончательно обостряется и запутывается тем, что границу между допустимым и недопустимым в языке (между нормативной и ненормативной, обсценной лексикой) в социальных сетях нарушают как раз те, кто воспринимается как речевой законодатель, – именитые ученые-филологи.
4. Не очевидно при этом целеполагание подобных авторов: это заявление безграничности индивидуальной языковой свободы или провокативность в отношении потенциального читателя? Где граница между предельной самостью языковой личности и посягательством на целостность языкового мира другого, читателя?
5. Остроту этой пограничной ситуации придает еще то обстоятельство, что авторитетные авторы ФБ и Твиттера являются преподавателями высшей школы и их потенциальными читателями становятся студенты.
Кузнецова Татьяна Владимировна
доцент кафедры стилистики русского языка
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, к. ф. н.
С. С. Кульпинов (Санкт-Петербург – Иркутск)
Обновленческий раскол в источниках личного происхождения за авторством «архиепископа» Алексия Петровича Копытова
Источники личного происхождения, относящиеся к деятельности участников Обновленческого раскола в Русской Православной Церкви, на сегодняшний день остаются довольно слабо изученными в отечественной исторической науке. На региональном уровне данная группа источников практически никем ранее не исследовалась.
В рамках данного исследования нами рассматриваются два источника личного происхождения, принадлежащих перу «архиепископа» [далее – «архиеп.»] Алексия Петровича Копытова, возглавлявшего Восточно-Сибирскую обновленческую митрополию с 13 января 1931 г. [ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 188. Л. 12] (фактически с 6 марта 1931 г. [ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 182. Л. 82]) по 10 декабря 1932 г. [ГАИО. Ф. Р-600. Оп. 1. Д. 685. Л. 61]. «Архиеп.» Алексий относился, скорее, к старшему поколению обновленцев (на момент институциализации раскола ему было уже 49 лет [ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 191. Л. 2]), однако определенно являлся идейным сторонником церковных преобразований. Период его управления Восточно-Сибирской митрополией фактически стал временем стабилизации церковной жизни после массового распада общин и закрытия храмов в 1930 г. [ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 182. Л. 82-136 об.].
Первый из рассматриваемых источников, озаглавлен «Отчет о состоянии Восточно-Сибирской митрополии за первый период ее существования», хотя, в действительности, назвать данный текст отчетом можно только весьма условно. Несмотря на то, что документ содержит определенные отчетные сведения, в частности, список епархий, входящих в митрополию, характеристики некоторых епархиальных «архиереев» и краткую историю Иркутской епархии, многочисленные отступления, в первую очередь, автобиографические, а также довольно резкие выпады автора в сторону ряда «иерархов» раскола, не позволяют классифицировать данный источник, как официальный документ. Возможно, в данном случае мы имеем дело с черновиком отчета, который, в силу вышеназванных особенностей, так и не был направлен в обновленческий Священный Синод [ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 232].
В «Отчете» «архиеп.» Алексий делает пространный экскурс в период первой половины 1920-х гг., описывая некоторые события II Поместного собора апреля-мая 1923 г., а также собственную деятельность на Тюменской и Ишимской обновленческих кафедрах, с большой теплотой отзывается о своем друге и соратнике «архиеп.» Михаиле Николаеве. Резкой критике подвергаются «архиеп.» Петр Добринский и Виктор Цыпкевич, а также «митрополит» [далее – «митр.»] Александр Введенский. Последний подвергается критике, как за свою политику в начале 1930-х гг., так и за неподобающее поведение во время визита в Иркутск в июле 1926 г. Автор с сочувствием пишет об идейных обновленцах и полностью отвергает политику свертывания церковных преобразований, начатую Синодом в 1930-х гг. [Там же].
Второй рассматриваемый документ является письмом «архиеп.» Алексия Копытова, обращенным, к некоему «высокопреосв. Владыке Николаю» (возможно, «митр.» Калужскому Николаю Винокурову), датировать которое следует первой половиной лета 1932 г. В тексте упоминается несостоявшийся съезд Восточно-Сибирской митрополии, запланированный на 28-30 мая 1932 г., а также критикуются решение апрельского Пленума Синода 1932 г. «Архиеп.» Алексий отмечает, что «теперь от каждого требуется своя инициатива и быстрое самоопределение к моменту». Помимо этого, в письме упоминается уния Константинопольского и Александрийского патриархатов с Англиканской церковью [ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 275].
Таким образом, оба рассматриваемых документа характеризуют «архиеп.» Алексия Копытова, как идейного обновленца, резко критикующего политику свертывания церковных реформ и крайне негативно настроенного по отношению к «митр.» Александру Введенскому.
Источники
1. ГАИО. – Государственный архив Иркутской области. Ф. 485. Оп. 2. Д. 182.
2. ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 188.
3. ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 191.
4. ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 232.
5. ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 275.
6. ГАИО. Ф. Р-600. Оп. 1. Д. 685.
Кульпинов Сергей Сергеевич
диакон, магистр религиоведения
аспирант кафедры Церковной истории Санкт-Петербургской Духовной Академии
Т. В. Левицкая (Москва)
«В этой тетради одна правда»: дневник Н.А. Лухмановой
Творческое наследие Надежды Александровны Лухмановой (1841–1907) охватывает широкий тематический диапазон, включающий в себя наиболее актуальные вопросы рубежа ХIХ – ХХ веков: сибирская тема, военная литература, женский вопрос, проблемы воспитания детей и др. Если в начале своего профессионального пути она выступала в качестве неутомимого универсального «переводчика», безымянного автора легкомысленных фельетонов или «эксперта» редакции, отвечавшего на вопросы читателей, то уже через несколько лет имя ее не сходило с первых страниц популярных изданий. Она ездила с лекциями по всей России, принимала участие в громких полемиках, а в возрасте 62 лет поехала на русско-японскую войну в качестве военного корреспондента («Петербургская газета», «Южный край»). Признание читателей пришло к Лухмановой после публикации в «Русском богатстве» (1893) повести «Двадцать лет назад. Воспоминания из институткой жизни», но, парадоксальным образом, удачный дебют сыграл роковую роль в дальнейшей творческой карьере писательницы: клеймо «институтки» оказалось несмываемым, и все попытки Лухмановой выйти за рамки традиционной проблематики женской литературы воспринимались как институтское «рукоделие». В результате, ее публицистические работы на все лады искажались критиками при жизни писательницы, а сразу же после ее смерти были с легкостью выброшены «за борт» литературного процесса.
Секретарь писательницы Ольга Георгиевна Базанкур вспоминала, что перед своим отъездом на русско-японскую войну Лухманова оставила ей дневник со словами: «Вот, милая О., если я умру на войне, позаботьтесь, чтобы память обо мне была освещена правильно; в этой тетради одна правда» («Санкт-Петербургские ведомости», 1907. № 180). С первых страниц Лухманова объясняет цель написания дневника желанием сохранить наиболее достоверные сведения о себе. Для нее наибольшую ценность представляет ее социокультурная роль: «утверждение себя» как писательницы. Создается впечатление, что Лухманова пыталась написать историю своей карьеры, т.к. записи касаются в основном ее профессиональной деятельности: она вспоминает о литературных успехах во время учебы в институте, рассказывает о своих первых шагах в журналистике, делится впечатлениями о встрече с сибирским краем и использованием этого опыта в творчестве, останавливает внимание на своих взаимоотношениях с различными издательствами («Новости», «Новое время», «Русское богатство»). В своих записях она подробно останавливается на взаимоотношениях с Н.К. Михайловским, О.К. Нотовичем, А.С. Сувориным и подробно описывает историю обретения своего места в литературе. В докладе будет проанализировано насколько отличается ее интерпретация от событий, зафиксированных в переписке того времени.
Левицкая Татьяна Владимировна
кандидат филологических наук
кафедра истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса
филологический факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова
Е. Е. Левкиевская (Москва)
«Русалка на ветвях сидит…»:
литературный образ и его изобразительные трансформации в XIX-XXI вв.
В докладе пойдет речь о том, как и под влиянием каких факторов складывался и изменялся образ сидящей на ветвях русалки в иллюстрациях к прологу к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Пролог принадлежит к кругу хрестоматийных текстов русской литературы, с которыми знакомятся в детстве и которые в значительной степени формируют национальную картину мира. Этот текст содержит устойчивый ряд мифологических компонентов, репрезентирующих в массовом сознании основные элементы русской мифологической и сказочной системы: лешего, летящую в ступе бабу-ягу, сидящую на ветвях дуба русалку. Помимо самого пушкинского текста стереотипные образы Лукоморья формировались и формируются иллюстрациями к пушкинской поэме (самое раннее из них художника Н.А. Рамазанова относится к изданию 1843 г.), которые закрепляют в коллективном сознании нормативные представления о мифологических персонажах. Позже важную роль в интерпретации этих образов сыграли мультфильмы, а в настоящее время персонажи Лукоморья стали частью массовой культуры и тиражируются в раскрасках, пазлах, книжках-раскладушках, компьютерных презентациях, которыми учителя сопровождают изучение Пролога в младших классах. Проблема заключается в том, что начиная примерно с середины XX в. в подобных иллюстрациях и мультфильме сидящая на ветвях русалка вопреки восточнославянской традиции постоянно изображается в виде женщины с рыбьим хвостом (вопрос о том, как она смогла забраться на дерево, остается открытым).
Описывая «обитателей» Лукоморья, Пушкин опирался на традиционные мифологические представления и вполне корректно указал на одну из характерных особенностей восточнославянских русалок – качаться на ветвях деревьев, появляясь на земле на Троицкой неделе. Поскольку восточнославянские русалки суть «нечистые» покойницы (преимущественно – девушки, умершие до брака), то анатомически они ничем не отличаются от обычных людей – у них есть ноги и, разумеется, нет никакого хвоста в отличие от западноевропейских сирен, генетически восходящих к совершенно иному мифологическому источнику. Русские художники XIX- начала XX в. изображали русалок в соответствии с восточнославянской традицией – в виде обычных девушек в белом и с распущенными волосами, резвящихся на фоне растительности или лесного водоема (Н. Рамазанов, Н. Крамской, Е. Маковский, В. Прушковский, И. Бибилин). Дореволюционные иллюстраторы «Руслана и Людмилы» также вполне отчетливо изображают ноги у сидящей на ветвях русалки. Типологически иной образ русалки как женщины с рыбьим хвостом возникает в советских иллюстрациях к пушкинской поэме с середины XX в. (ср., например, иллюстрацию Н. Кочергина 1956 г.) – он воспроизводится вплоть до начала XXI в., когда происходит частичное возвращение к анатомически «исконному» образу, опирающемуся на восточнославянскую мифологию. На наш взгляд, возможным источником, повлиявшим на появление в иллюстрациях к пушкинскому тексту «хвостатой» русалки, могла стать «Русалочка» Г.Х. Андерсена, который в советский период был одним из наиболее тиражируемых зарубежных писателей для детей. Название главной героини сказки Андерсена впервые появилось в классическом русском переводе его текстов 1894-1895 г. А. и П. Ганзенов (в первоисточнике она называется Den litle Havfrue «маленькая морская госпожа»), что спровоцировало в советских иллюстрациях контаминацию двух образов – морской девы с рыбьим хвостом и сидящей на ветвях восточнославянской русалки. В постсоветский период под влиянием «возвращения к национальным истокам» вновь стала заметной тенденция изображать героиню пушкинского Лукоморья как девушку в белом платье в распущенными волосами и с обеими ногами в соответствии с представлениями о ней в восточнославянской традиции.
Левкиевская Елена Евгеньевна
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ
И. Б. Левонтина (Москва)
Наука и жизнь: о модели управления глагола согласовать
Понятие модели управления стало употребляться в теории «Смысл Û Текст» и в настоящее время широко используется, в частности, в работах Московской семантической школы. В рамках этой концепции описание семантики и грамматики слова едино: переменные в толковании соответствуют валентностям в модели управления. Рассмотрим, например, описание слова арендовать, выполненное Ю. Д. Апресяном для Активного словаря русского языка:
ЗНАЧЕНИЕ. А1 арендовал А2 у А3 за А4 на А5 ‘Лицо А1 приобрело право на использование собственности А2 лица А3 в течение длительного времени А5, заплатив за это лицу А3 сумму А4’ [А2 обычно недвижимость или транспортное средство].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: арендовать землю <стадион для проведения соревнований>.
А3 • у РОД: арендовать (площади) у академического института.
А4 • за ВИН: арендовать (за^мок) за миллион долларов.
А5 • на ВИН: арендовать (пять гектаров леса) на 49 лет.
У слова согласовать такая модель управления: кто согласует что с кем, или, другой вариант, кто и кто согласуют что. То есть, Петя согласовал место встречи с Васей, или Петя и Вася согласовали место встречи, или Друзья согласовали место встречи, или Группа согласовала место встречи. В ситуации участвуют два равноправных человека. В формате Активного словаря толкование будет начинаться примерно так: ‘Человек А1 и человек А2 договорились…’, а соответствующий фрагмент модели управления будет выглядеть так:
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: согласовать в Васей.
А1 + А2 • ИМ, МН: Они согласовали (время).
• ИМ и ИМ: Петя и Вася согласовали (время).
• ИМ СОБИР: Компания согласовала (время).
И вот со словом согласовать в последнее время происходят интересные события. Все дело в Статье 31 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Власть всячески пытается ограничить наше конституционное право на свободу собраний и уведомительную процедуру постепенно подменить разрешительной (а вернее – запретительной). Но поскольку выражения санкционировать митинг или разрешить митинг вызывающе антиконституционны, вместо этих глаголов стал стыдливо использоваться глагол согласовать (как бы техническая процедура: где лучше перекрыть, где туалеты поставить, как обеспечить безопасность и т. п.). Это по сути эвфемизм. Но очень быстро модель управления фальшивого согласовать перестроилась по образцу разрешать (кто разрешает кому что). Теперь регулярно говорят: Мэрия (не) согласовала нам митинг или даже Митинг (не) согласован мэрией (не "с мэрией", как должно быть, а по образцу разрешен мэрией).
Буквально на наших глазах модель управления слова изменилась. Точнее говоря, распространился новый вариант модели управления, и это произошло само собой, неосознанно.
Вот описание такой модели управления:
А1 • ИМ: Мэрия согласовала (митинг).
А2 • ВИН: согласовать митинг.
А3 • ДАТ: согласовать заявителям (митинг).
Иначе упорядочились валентности, да и толкование будет совсем другим – примерно таким: ‘Человек А1, имеющий более высокий статус…, чем человек А3, сказал человеку А3, что ему можно сделать А2…’.
Конечно, придется указывать такой вариант модели управления слова согласовать в словаре. Только с какой стилистической пометой?
Левонтина Ирина Борисовна
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник
Института русского языка РАН им. В.В.Виноградова
Е. А. Личманова (Москва)
Религиозный текст и маргинальный образ: способы их взаимодействия на примере Рутландской псалтыри
Маргинальные изображения на полях средневековых псалтырей и часословов долгое время рассматривались самостоятельно, вне зависимости от текста, который они призваны обрамлять. Подобное осмысление кажется вполне разумным: религиозные тексты, такие как псалмы, и образы на полях, воспроизводящие монстров, гибридов или сцены сексуального характера, кажутся не только не связанными по смыслу, но и противоречащими друг другу. Однако исследования последних двадцати лет все больше открывают глубокие связи – как смысловые, так и чисто визуальные – между текстами, которым посвящен тот или иной манускрипт, и их периферийными иллюминациями. Изображения играют роль глосс, поясняя и дополняя текст, обыгрывая его смыслы в комическом или морализаторском ключе, обогащая опыт светского читателя, для которого в первую очередь и предназначались подобные иллюстрации.
В данном докладе на примере маргиналий Рутландской псалтыри будет продолжена работа по исследованию взаимодействий религиозного текста и обрамляющих его комических образов, начатая еще Люси Фриман Сандлер и Майклом Камиллом и освещенная в недавних публикациях Бетси Чанко-Домингез и Кэтрин Смит. Здесь будут проанализированы способы связи слов и изображений и выявлены функции маргиналий, которые подобное взаимодействие порождает. Мы увидим, что даже на физическом уровне маргиналии не оторваны от текста: художники удлиняют буквы, выводя их на поля манускрипта и начиная тем самым прямой диалог с изображениями. Неожиданно читатель становится свидетелем того, как буква «дотягивается» до интимной части тела одного из персонажей маргиналий, делая обращенное к Богу слово частью непристойной сцены.
По всей видимости, это создавало, в первую очередь, комический эффект. Именно на данной развлекательно-комической функции взаимодействия текста и маргинальных иллюстраций будет сделан основной акцент нашей презентации. С одной стороны, маргинальные образы смешны сами по себе: волосатое существо, оседлавшее страуса, человек с двумя дополнительными ногами или танцующий заяц забавны вне дополнительного контекста. Но что происходит, когда мы смотрим на них в связи с текстом псалмов? Ветхозаветные молитвы умаляют комический эффект изображений, или наоборот, маргиналии влияют на то, насколько серьезно воспринимаются псалмы? Можно ли здесь проследить третью, более сложную и нюансированную закономерность?
Мы предполагаем, что религиозный текст не только физически связан с маргиналиями, но и добавляет к общему эффекту, к целостному комическому впечатлению, производимому страницей манускрипта. Образы были бы менее смешны или, точнее, смешны по-другому в отрыве от псалмов. Слова меняют качество юмора, создаваемого маргиналиями: они доводят просто забавный образ до абсурда, а похабное изображение вдруг приобретает более глубокие смысловые уровни. Проанализировав тексты и образы Рутландской псалтыри, одного из самых ранних манускриптов с развернутой программой маргиналий, нами были сформулированы закономерности, с помощью которых художники достигали комических эффектов. Как в современной комедии, мастера использовали определенные схемы, благодаря которым юмор, создаваемый на взаимодействии текстов и образов, варьируется от прямолинейного и грубого до утонченного и содержащего не самый очевидный подтекст.
Личманова Елена Александровна
магистрантка 2 курса программы "Медиевистика" НИУ "ВШЭ"
Е. Н. Марасинова (Москва)
Уголовные преступления, смертная казнь и мертвое тело (Россия XVIII в.)
Тема доклада будет связана с отношением к мертвому телу в России XVIII в контексте уголовных преступлений. Этот ракурс исследования дает возможность получить новые сведения об отношении русского общества к смерти, неизбежности Страшного суда, назидательности казни в контексте развития идей Просвещения и научных знаний.
По традиции, идущей из XVI века, наказание тела преступника было тесно связано с представлениями о страданиях его души после смерти и об Апокалипсисе. Явное подтверждение этому дают результаты сопоставления казней Ивана Грозного, перечисление «смертных наказаний» в Соборном Уложении 1649 года и иконографии изображений Страшного Суда. Расчленение, четвертование, сожжение, ослепление перед смертью и утопление – все эти виды наказаний, по мнению современников, так или иначе обрекали казненного на невозможность воскресения в Судный день. Слепой не сможет узреть милосердие Божие, утративший тело при жизни не сможет восстать, а преданный воде, стихии, связанной с преисподней, не поднимется со дна.
Выставленное напоказ тело казненного преступника служило средством устрашения для других подданных. Убийц часто казнили на месте совершенного убийства, чтобы отомстить за кровь жертвы. Но в отличие от Западной Европы в России XVIII века мертвое тело никогда не имело утилитарной потребительной ценности. За выбрасывание покойника на улицу можно было оказаться на каторге, что говорит о невозможности нажиться на теле покойника. За раскапывание могил полагалась смертная казнь, но не за использование тела умершего в корыстных целях, за разграбление захоронений. Отсутствие прагматичного интереса предприимчивых людей к мертвому телу было напрямую связано с тем, что европейский бум анатомических театров обошел Россию XVIII века стороной. Поэтому тела казненных преступников, как правило, не становились объектами для изучения патологоанатомов.
Первый анатомический театр появляется в России в XVIII века сначала в Москве, а потом в Петербурге. Для анатомического театра приказано было доставлять трупы казненных. Петр часто посещал анатомический театр, а также сам иногда появлялся на эшафоте во время казни и после экзекуции читал народу лекции о строении человеческого тела, используя тело казненного в качестве демонстрационного экспоната. Однако ни публичные лекции в анатомическом театре, ни использование человеческих органов во время обучения студентов-медиков не получили большой популярности в России (после смерти Петра I заспиртованные для научных целей останки некоторых преступников были преданы земле). Потребность в мертвых телах легко покрывалась с помощью полицейских контор, которые доставляли тела казненных. По материалам одного следственного дела приговоренного к смертной казни направили еще живого сразу в анатомический театр, где его тело стало объектом исследования. Заработать скорее можно было на мертвых «уродцах», которых по указу Петра I нужно было доставлять в первый русский музей Кунсткамера. Петр строжайше запретил считать «уродство» проявлением силы дьявола. Всех мертворожденных младенцев с аномалиями нужно было сохранять в спирте и доставлять в Петербург, в Кунсткамеру для наблюдений за «игрой природы». Так возник вторичный, правда малодоходный, рынок мертвых тел. Трупы, выставленные в Кунсткамере, были для государства скорее предметом расходов. Вход в музей был бесплатным, более того для привлечения внимания посетителей угощали кофе, бутербродами и венгерским вином.
Кроме того, государство и церковь имели право карать умерших за земные грехи, лишая их права на отпевание и погребение у храма. К несчастным, не обретающим покой и после кончины, относились не только «бесноватые», самоубийцы и погибшие при разбое и воровстве. Утонувших во время забав на воде, убившихся на качелях и умерших в результате опьянения нужно было просто оставлять в поле или лесу. Иногда в болотистой местности эти незахороненные трупы не разлагались, а ссыхались, превращались в подобие мощей. Если крестьяне находили случайно такие «нетленные мощи», они начинали поклоняться им как святым.
Наконец, следственные дела по уголовным преступлениям дают информацию о способах сокрытия тел убитых преступниками. Иногда тела зарывали, но чаще сбрасывали в ледник, чтобы потом заявить властям, что покойный сам оступился, упал и замерз. Показательно, что в сословном русском обществе наказание за убийство зависело от статуса преступника, но не имело никакой связи с социальным положением жертвы, иначе говоря, за убийство крестьянина, дворянина, священника следовало одинаковое наказание.
Негласный мораторий на смертную казнь во время правления Елизаветы Петровны и его подтверждение после трех громких казней при Екатерине II привел не только к ограничению публичности наказаний, но вообще к устранению эшафота из социального ландшафта России. Наказание тела преступника теперь ограничивалось кнутом, плетью или батогами, а также клеймением, семантика которого изменилась. Теперь клеймили не словом «вор», а одной буквой «у» (т.е. убийца), что говорило о некотором изменении понимания главного уголовного преступления.
Таким образом, отношение к телу убитого и казненного дает новый материал для понимания социально-политического и мировоззренческого контекста развития русского общества в XVIII веке.
Марасинова Елена Нигметовна
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
А. В. Михайлов (Красноярск)
Олег Куваев как житель центра жизни и ходок по главным дорогам
Олег Куваев вошел в русскую литературу в начале 1960-х годов. Его произведения говорили о романтике странствий, поиске своего места в жизни, своего коллектива, простых и честных отношений. В романе «Территория» геолог-писатель выразил в концентрированном виде то, что подготавливалось его рассказами и повестями: погружение в природу, в нужную для себя и страны работу, в поиски себя. Идеологема, которую можно вынести сначала из произведений, а затем из дневников и писем писателя, — «делай что должно, а дальше будь что будет». Слово адресуется к поколению вокруг романной территории: а вы как прожили свою жизнь, для чего вы живете, чувствуете? Вот, к примеру, мои герои, они сделали свое дело…
Произведения Олега Михайловича Куваева стали символом рабочего и одновременно романтически возвышенного отношения к жизни.
Его «территория» — главное место в жизни, а то, что вне Территории — места, не совсем достойные внимания, по крайней мере, в настоящий момент. На Территории происходит и главное дело, им заняты настоящие люди. И не так важно, что здесь люди в буквальном смысле гибнут за «желтый металл», они бы так же истово искали и другие полезные ископаемые, если они понадобятся стране. Отношения их и к Стране оказываются не совсем понятными с точки зрения обыденной логики. Она во многом обижала их, не ласкали их ее верные слуги, но Страна (Территория) совсем не связана с конкретным режимом, она надземная, сверхреальная. Более того, там, где эти «безвестные работяги» оказываются, и возникает Территория, одухотворяемая ими, их трудом и общением. Они создают ощущение первенства, важности своего бытия в конкретном месте.
Во втором романе (не до конца дописанном) «Правила бегства» (Магадан, 1980) О.М. Куваев говорит о том, как происходит удаление от суеты и ненужного, как однажды найденное место и время пытаются ускользнуть от человека.
Дневники, письма и другие документы, связанные с О.М. Куваевым, открывают и другую сторону писателя — его честность по отношению к себе и эпохе. Отсюда еще большее доверие к его прозе.
Главные дороги жизни, человек их создает сам, своим отношением к себе, к исхаживаемому им месту, к людям вокруг себя. Это и Подмосковье, и берег Ледовитого океана, и горы Кавказа и Памира, и вяткинские, костромские леса и поля. Человек вносит смысл в то место, которое обживает своим присутствием. И в каком-то смысле остальное становится маргинальным, не совсем важным, может подождать. А когда переместится туда настоящий человек, и место то окрасит собой, то и там будет центр, там будет главное место.
Литература
Авченко В.О., Коровашко А.В. Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке. М.: АСТ, 2020.
Куваев О.М. Сочинения: в 3 т. М.: Художественная литература, 2005.
Михайлов Алексей Валерианович
канд.филол.наук, доц., завкафедрой общественных связей
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск.
Т. А. Михайлова (Москва)
Приход умершего мужа: об одной реализации фольклорного мотива в советской поэзии
В качестве отправного методологического принципа исследования мы опираемся на сформулированный П.Зюмтором тезис: «наука во все времена есть не более, чем система экспликативного вымысла, производное от одного из главных условий нашей интеллектуальной деятельности – веры в способность реальности образовывать знаковые системы» (Зюмтор 2003: 12). Под «реальностью», естественно, понимается и текстовая реальность, более того – именно ей и отдается предпочтение «по определению», поскольку сам факт существования «реальной реальности» - проблематичен и в любом случае оказывается доступным для анализа лишь в текстовом воплощении (не обязательно – вербальном). Иными словами, объект обретает эксплицитное бытие лишь в ходе интерпретации, однако это не означает, что имманентная структура не может присутствовать в нем изначально и, более того, in potentia.
Отправным текстом послужил опубликованный летом 2019 года в журнале «Непридуманные истории» рассказ о том, как во время войны к бабушке автора мемората приходил по ночам ее муж, считавшийся пропавшим без вести. Долгое время героиня мемората полагала, что ее муж выжил и скрывается у партизан, чем и объяснялось настоятельное требование сохранить в тайне его посещения. Однако со временем характерное ухудшение состояния героини заставило ее сестру заподозрить истину, был вызван священник, успевший спасти ее от гибели.
Мотив «приход умершего мужа/жениха» (согласно классификации Л.Н. Виноградовой – № 12.8, см. Виноградова 2012: 304) является необычайно распространенным, естественно не только в славянском фольклоре, но и гораздо шире. Достаточно широко встречаются и его проекции в тексте литературном (ср. Жуковский «Людмила», «Светлана», а также «Ленора» Г. Бюргера, 1773, шотландская баллада «Клятва верности» в обработке Перси, 1765 и др.). Мотив делится на несколько суб-типов, в которых варьирование происходит за счет:
o замены мужа на жениха
o о смерти мужа может быть не известно (пропал без вести)
o жена (невеста) сознательно призывает дух мужа при помощи обряда / жена невольно призывает умершего чрезмерными проявлениями горя (русск. фольк. «наплакать», см. Власова 2018: 514).
Призывы к умершему «вернуться» входят на эксплицитном уровне в схему традиционной причети (особой формы погребального плача, сочетающей собственно текст с перемежающими его криками и стонами), причем – именно в женском исполнении, предпочтительно – жены (см. Алексеевский 2007).
На Британских островах распространен мотив вызывания из могилы умершей невесты, послуживший, видимо, источником для стихотворения Барри Корнуолла «Заклинание», переведенное Пушкиным (1830, «Заклинание», ср. строки: «Я тень зову, я жду Леилы / Ко мне мой друг, сюда, сюда!»).
Одноименное стихотворение было в свою очередь написано Анной Ахматовой в апреле 1936 г., предположительно в связи с 50-летней годовщиной со дня рождения ее «мертвого мужа». В стихотворении реализуется суб-вид сюжета, в котором умерший муж намеренно вызывается «Из тюремных ворот / Из заохтенских болот…». Ритуальная трапеза («Приходи ко мне ужинать») отсылает к сходному обряду «гадание о женихе» (ср. гадание в бане Татьяны Лариной и ее последующий сон), а также перекликается с ее же «фольклоризованной лирикой» (ср. например, «Не бывать тебе в живых», написанное 16 августа 1921 г., то есть за неделю до реальной гибели Гумилева). См. подробнее (Мейлах 2017).
В основе доклада лежит анализ текста и истории создания и последующей судьбы совсем другого стихотворения, другого поэта, которое в гораздо большей степени, чем ахматовское, может быть названо «советским», но которое при этом содержит имплицитную фольклорную схему № 12.8, что во многом повлияло на дальнейшее бытование текста и восприятие его широкой аудиторией.
Литература
Алексеевский М. Мотив оживления покойника в северно-русских поминальных причитаниях: текст и обрядовый контекст // Антропологический форму, 2007, № 6, 227-262.
Виноградова Л.Н. Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80-90-х годов XX века. Т. II: Демонологизация умерших людей. М., 2012.
Власова М. Русские суеверия. М., 2018.
Зюмтор П. Опыт построения средневековой поэтики. Пер. с франц. И.Стаф. М., 2003.
Мейлах М.Б. «Заклинание» Анны Ахматовой // Мейлах М.Б. Поэзия и миф. Избранные статьи. М., 2017, с. 384-387.
Михайлова Татьяна Андреевна
доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
ведущий научный сотрудник Институт языкознания РАН
С. С. Неретина (Москва)
Понимание как возможность Иного
Суждения, которые кажутся очевидными и не вызывающими необходимости в и доказательстве, на деле являются пересечениями двух по меньшей мере воображаемых реальностей, базирующимися только на наших известных представлениях об этой реальности. Эти представления родом из античности, воспринимавшей мир как умопостигаемый и имеющий судьбу, т.е. изначально опредéленный и соответственно определенный. Понятия в таком известном, умозрительном мире были бы фикциями, если бы они ему не соответствовали. Истина в таком мире была высшей внеисторической мерой, обеспечивающей и внеисторическую природу человека.
Иное дело, однако, началось с момента, когда возникло представление не только об ином представлении об истине и представляющем ее божественном субъекте, но и – гораздо серьезнее - о неведомом Боге, который, как известно, целиком и полностью помещается внутри человека, частицы творений Его, т.е. фактически лишающегося определений, поскольку вмещает в себя неведомое, и природа существования которого в силу ее сотворенности становится исторической, лишающейся своих «вечных» определений.
Это постигается на примере долгое время бытовавших определениях человека: как рупора Логоса (античное представление); как разумного живого существа (Цицерон), где под живым существом понимался бог, разумного смертного живого существа (Сенека, поправивший Цицерона, считавшего, что без дополнения «смертный» человек отождествляется с богом); как верующего, речевого, бессмертного и пр. существа в христианстве, испытывающем трудности с определением (см. выше) и пытавшемся заместить определение понятием «статус»; как существа, обладающего двуосмысленно понятой субстанцией: мыслящей и протяженной, которые могут абстрагироваться друг от друга (Декарт); как существа, создающего культуру (диалогическая философия) и как существа, рассматриваемого сквозь призму тела с его желаниями, интимностью, которое, однако, возбуждается дискурсами власти.
Любое правильно построенное предложение можно считать суждением, но во времена средневековья не всякое так построенное предложение может считаться истинным или ложным: последнее может считаться таковым только при условии, что его произносят от имени «я» или «ты» (Августин). Если для Аристотеля понимание означает выход из родовой общности суждения к распознаванию своеобразия каждого индивида по его имени, устраняя омонимию, то Августин «сжимает» основание понимания до звука. Именно звук делит мир на нетварное и тварное, вечное и временное, молчание и речь. Verbum понималось не просто как слово, а нечто дрожащее, искажающее, правдоподобное; оно может быть производно от истины, мгновенно изменяемой звуком (см. «О диалектике» Августина») и соответственно становящей дву-о-смысленной (эквивокативной). Но это означает, что любое созданное человеческой речью суждение лишь правдоподобно и, даже если это правдоподобие сохраняется при выражении суждения, посылки этого суждения имеют значение не при любых условиях, но при решении определенных задач. Их характеристика через «всегда» («субъект всегда является выражением понятия вещи… а предикат служит для обозначения изменений, которым может подвергаться вещь») оказывается неточной, ибо и предикат может оказаться вещью, под которой понималось не только чувственное или понимаемое, но скрытое (неведомое). Любое суждение можно рассматривать как предполагаемое, пробабилистское, трансцендирующее только «наши» возможные представления, окликающие нечто иное, в надежде на отклик этого Иного.
Неретина Светлана Сергеевна
доктор философских наук
главный научный сотрудник Института философии РАН
Ф. Н. Никитин (Санкт-Петербург)
В. А. Пашков: великосветский русский религиозный диссидент как патриот России
Во второй половине XIX века наблюдалось негативное отношение к русскому религиозному диссидентству рационалистического толка. В частности, религиозные диссиденты обвинялись в подрыве государственного строя, они рассматривались как потенциальная опасность для государства. Министр внутренних дел Д. А. Толстой говорит о религиозных диссидентах, как о деле, имеющее «…серьезное государственное значение…» [1, Ч. 3. л. 58]. Помимо государственных структур отрицательное отношение к религиозным диссидентам наблюдалось в Православной церкви и русском обществе. Негативное отношение к прошлому русского религиозного диссидентства сохраняется и ныне.
В нашем докладе будет предпринята попытка реабилитировать русское религиозное диссидентство в этом контексте. В первую очередь, речь пойдет о руководителе движения пашковцев, полковника гвардии в отставке и аристократа В. А. Пашкова. Среди пашковцев были представители высшего петербургского общества (А. П. Бобринский, М. М. Корф др.). Пашковское движение привлекло к себе внимание петербургского общества: им интересовались русские писатели: Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский.
Пашковцы также испытывали негативное отношение к себе. М. М. Корф сообщает, что их считали опасной социалистической партией [1, С. 55]. С. Ливен, дочь участницы пашковского движения, пишет, что власти рассматривали их «…как вольнодумцев, опасных для существовавшего государственного строя» [3, С. 27]. Главный начальник Верховной распорядительной комиссии М. Т. Лорис-Меликов считал, что религиозные беседы, которые устраивал в Петербурге Пашков, необходимо прекратить «…в интересах государственного порядка и общественного спокойствия…» [5, л. 2 об.]. Александр II повелел создать Особое совещание, которое занималось пресечением религиозной деятельности Пашкова, в его состав входили высокопоставленные лица [2, л. 2 об. – 3.]. В 1884 г. В. А. Пашкова изгнали из России.
Письменное наследие В. А. Пашкова довольно обширно. Один его архив хранится в библиотеке Бирмингемского университета, другой в Германии, в миссии Свет на Востоке. Корреспонденция Пашкова публиковалась в дореволюционной периодической печати, она также содержится в архивных документах (ГАРФ). Переписка Пашкова является важным первичным источником по изучению русского религиозного диссидентства. А. Пузынин на ее основе сделал концептуальные выводы в своем исследовании. [4].
На основе вышеупомянутых источников мы посмотрим на Пашкова как на человека, искренне любящего Россию, желающего ей блага. Мы продемонстрируем на примерах, как Пашков хотел помочь России. Мы рассмотрим Пашкова как патриота своей страны. Тем самым мы уберем с него штамп «опасного сектанта», контуры которого были частично показаны выше. Данная тема, по нашим наблюдениям, ранее не рассматривалась в историографии пашковского движения, что делает наше исследование актуальным.
Список использованных источников и литературы:
1. ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974.
2. Корф М. М. При царском дворе: Корнатль: Свет на Востоке, 2018.
3. Ливен С. П. Духовное пробуждение в России. Чикаго: Изд-во SGP, 1986.
4. Пузынин А. Традиция евангельских христиан: изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней. М.: ББИ, 2010.
5. РГИА. Ф. 1261. Оп. 3 1880 г. Д. 150.
Никитин Филипп Николаевич
студент Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета
А. А. Плетнева (Москва)
Школьная риторика и русская гимнография XVIII в.
В современные служебные минеи входят две службы, составленные в XVIII в., и непохожие на остальной минейный корпус. Речь идет о «Службе благодарственной Богу в Троице святой славимому о великой Богом дарованной победе над свейским королем Каролом XII и воинством его содеянной под Полтавою в лето 1709 месяца июня в 27 день» и «Службе благодарственной Богу, в Троице славимому, на воспоминание заключенного мира, между империею Российскою и короною свейскою». Эти службы, посвящены военным победам России в русско-шведской войне (1700-1721), которая в текстах осмысливается как священная война. Другие минейные службы, посвященные исключительно светским событиям, на сегодняшний день неизвестны.
Автором службы (27 июня) на день Полтавской победы является Феофилакт Лопатинский, архиепископ Тверской и Кашинский, богослов, философ, профессор славяно-греко-латинской академии, сподвижник Петра I. Автором службы о Ништадтском мире был Гавриил Бужинский, епископ Рязанский и Муромский. Он был ревностным сторонником Петра, в своих проповедях прославлял петровские преобразования и новую Россию. До архиерейства по назначению царя исполнял обязанности обер-иеромонаха флота. Авторов служб объединяет еще и то, что оба они получили образование в Киево-Могилянской академии. В программу словесных наук Киевской академии в обязательном порядке входила риторика и поэтика, которые были ориентированы на барочные образцы.
В литературе о школьным барокко обычно рассуждают на материале виршевой поэзии. Между тем, службы на военные победы были написаны именно по правилам школьной риторики и являются образцовыми барочными произведениями. В докладе будут рассмотрены положения, излагающиеся в риториках и специфика приложения барочных принципов к гимнографическому произведению. Так, в частности, будут рассмотрены библейские топосы и их переосмысление в духе барочной поэтики. В обычном гимнографическом произведении, посвященном конкретному святому, житийные сюжеты сопоставляются с библейскими. В службе Полтавской победе на месте жизни святого – военная кампания, на месте христианского подвига - победа в войне. И история войны так же, как история жизни святого, ставится в один ряд с библейским повествованием. Так, например, известно, что Карл, проводя рекогносцировку войск перед Полтавской битвой, был ранен в пятку. Это событие сравнивается со спором апостола Петра и Симона волхва. Симон волхв объявил себя Богом и поднялся в воздух, а потом упал, сломав ноги.
Связан верховнейшаго молитвою, святотать летающий
Люте паде от воздуха, и сокруши голени
и иже криле восприят, внезапу ног лишився.
тогоже верховнейшаго молитвами
и его тезоименитого трудами
свейски Симон, мняйся от гордыни не по земле ходити,
устрелен, охроме на постыдение своея гордости.
Плохую координированность шведского войска во время Полтавской битвы объясняли тем, что план Карла по какой-то случайности не был доведен до сведения генералов, и у командования на поле боя было много путаницы. Этот исторический сюжет сравнивается в службе со строительством Вавилонской башни. Смешение языков привело к тому, что люди перестали понимать друг друга.
Равно древнему столпотворению
высокоумное врагов наших здание подобное прият разорение
сниде бо Бог видети дело их и смеси языки им,
яко не слышати друг друга своего
ни воинству начальников гласу внимати
и разсыпа их по лицу земли живых, мертвых же прияше преисподняя земли
и дело их в прах разсыпася.
Плетнева Александра Андреевна
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Института русского языка РАН им. В.В.Виноградова
Tilmann Reuther (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria)
«Моя хата с краю»
Но в гражданском смысле он не активный, даже трусоватый. Занимается только наукой, а в остальном ― «моя хата с краю…»
[Эльдар Рязанов.
Подведенные итоги, (2000)]
«а ты там убивай себе как угодно, моя изба с краю».
[Ф. М. Достоевский.
Братья Карамазовы]
Обзорно проехав
деревню туда-сюда, мы постучались
в хату с краю,
по журналистской привычке
больше доверяя
маргиналам.
[Игорь
Мартынов.
Дерибрюхово // «Столица», 1997]
1. Высказывание «Моя хата с краю» (далее МХК) известный фразеологизм русского языка. Есть мнение, что оно характеризует также менталитет русского (и украинского) человека и его культурное пространство.
2. Три эпитета демонстрируют исследовательские вопросы доклада:
· Кто? в какой ситуации? кому? о ком? сообщает, что «хата с краю»? Ср. ниже, пункт 5.
· Как лучше перифразировать высказывание «МХК», т.е. какое значение / какие значения у этого фразеологизма? Ответ часто дает контекст, ср. первый эпитет: У человека нет гражданской активности, наблюдается трусливость, круг занятий ограничен).
· Имеет ли фразеологизм «МХК» стандартное продолжение, или варианты? Намек в троеточии в первом эпитете: стандартное продолжение гласит: «МХК, ничего не знаю»; вариант представлен во втором эпитете: «Моя изба с краю».
· Возможно ли переосмысление фразеологизма, его творческая обработка? Положительный ответ дает третий эпитет: Журналисты направляются к хате на краю (села), так как больше доверяют живущим там людям-«маргиналам»(!!!), чем людям, живущим в центральных районах (села).
· Как должно выглядеть лингвистическое описание данного фразеологизма? Жив ли он? Об этом пойдет речь в докладе.
3. Я лично услышал фразеологизм «МХК» всего один раз в живой речи, когда обсуждал в одной восточно-славянской стране с другом (не лингвистом), где-то в 2004 году, перспективы положительного развития общества.
Он сказал так: - У нас ничего не получится. Люди думают: «МХК.»
Углубляясь в тему, я расспрашивал собеседника о том, что он имеет в виду, так как я во многом видел положительный вектор развития, свободу слова, широкий политический спектр. Разве что экономическое положение страны было слабое, но не слабее, чем, скажем, в той или другой стране на Балканах, которые тогда готовились вступить в Европейский Союз.
И мне было сказано: - У нас все думают только о себе, никто не хочет брать на себя какой-либо ответственности, люди завидуют друг другу успехи и сами не хотят улучшить свою жизнь. И более того: - Люди всё жалуются, но одновременно успокаиваются тем, что соседу (да! именно соседу) еще хуже. А если не хуже, то даже готовы сделать так, чтобы ему стало (!) хуже.
4. Материал исследования: Выписка из Национального корпуса русского языка на «твердый» запрос «хата с краю» по общему корпусу дала 68 вхождений, из них 54 с точным результатом МХК, а другие с местоимениями наша <его, их> хата, или без зависимого. Запросы на словоформы слова хата в контексте «с краю» (т.е. «хаты с краю» и т.д.) дали 6 вхождений, причем только в ед. числе), а запрос на вариант «моя изба с краю» дала 8 вхождений (запросы на другие словоформы слова изба никаких вхождений не давали).
5. Кто? в какой ситуации? кому? о ком? сообщает, что «хата с краю».
В первом эпитете автор (Рязанов) приписывает герою свойство гражданской неактивности, трусливости словами, которые сам герой, углубленный в науку, вряд ли произнес про себя. Во втором примере автор (Достоевский) сообщает нам мысли Смердякова, в связи с тем, что тот «выговорил себе у Дмитрия Карамазова позволение пролежать это время как бы в падучей». В третьем примере обыгрывается парадокс: Журналисты направляются к маргиналам, которые, как принято думать, ничего не знают.
Будет предложен анализ целого ряда примеров из нашего материала.
6. Наконец, рассмотрим диалектический социальный момент. Чем тоталитарнее строй, тем более склонены будут люди считать, с одной стороны, что внутренние (!) дела строя «не их дело» («МХК»). С другой стороны, они даже очень склонены будут считать, что внешние дела, «реноме строя» и его мощь очень важны, т.е. «наша хата» совсем не должна стоять с краю. Иначе говоря, «хата с краю» - категория диалектическая, одновременно периферийная и центральная, для любого культурного пространства.
Tilmann Reuther
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria
И. В. Романова, Л. В. Павлова (Смоленск)
Устойчивые лексические комбинации в книжной поэтической «Персональной серии» в свете компьютерного исследования и авторской рефлексии
В ходе многолетних исследований нам удалось установить важную особенность текста: его существование основано на принципе айсберга. На разных структурных уровнях текста – от фоники до лексики – есть явления и приемы, контролируемые авторским сознанием и создающиеся автором целенаправленно. Они воспринимаются читателем и без особых усилий выявляются исследователем. Но есть некие потаенные структуры текста, существование и функционирование которых отчасти предопределяется языком, в большей же степени – особенностями писательского сознания, психологией творчества. Их невозможно увидеть без специальных технических средств, контролирующих и фиксирующих особенности индивидуальной речевой деятельности и поэтики. Именно они формируют авторский идиостиль. Для исследования скрытых структур текста было разработано несколько программных комплексов.
Один из них – «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах», который позволяет в автоматическом режиме обнаружить повторяющиеся наборы лексем (лексические комбинации) в творчестве того или иного автора («корпусное» направление исследований) или в тематически заданном определенной ключевой лексемой корпусе стихотворений разных авторов вплоть до всей русской поэзии («тематическое» направление исследований). В ходе апробации программного комплекса стало ясно, что появление повторяющихся лексических комбинаций – дифференциальная особенность именно поэтической речи. В поэтических текстах устойчивые лексические комбинации могут привлекаться для описания идиостиля автора. У одних авторов появление рядом одних и тех же лексем на обозримом участке тексте поддается более-менее логичному объяснению, у других нет.
Доклад отражает опыт применения данного программного комплекса на материале «Персональной серии» (2017-2018) из одиннадцати поэтических книг участников литературного объединения «Персона» (Смоленск). Первоначально исследование было посвящено анализу цветообозначений в поэзии смоленских авторов. Анализ показал, что поэты воссоздают прежде всего черно-белые приметы пространства, создавая тем самым графический образ мира. Преобладание белого и черного цветов связано с мотивом творения, творчества, с образом текста на странице. Второе место по численности занимает красная гамма, представленная уже не столько повторяющимися лексемами, сколько большим разнообразием цветоименований. Отдельно рассматриваются индивидуально авторские цветовые пристрастия, закрепленные в повторяющихся лексических комбинациях, анализируется устойчивое лексическое окружение некоторых цветообозначений. Главный эксперимент заключался в сопоставлении результатов компьютерного исследования с той интерпретацией, которую предлагали авторы, ознакомленные с этими результатами. На втором этапе привлекались и индивидуально-авторские лексические комбинации, не содержащие цветообозначений. Исследование подтверждает, что устойчивое соседство определенных лексем в разных текстах – не вполне контролируемый сознанием автора процесс.
Кроме того, исследуются случаи функционирования общих для разных авторов цветовых лексических комбинаций. Подобный подход позволяет приблизиться к пониманию как когнитивных процессов, так и механизмов формирования отдельного текста и гипертекста. Лексические комбинации гораздо в большей степени, чем общность цветового мышления, маркируют глубинные связи между текстами разных авторов. Эти связи могут быть обусловлены взаимовлиянием поэтов как от книжного восприятия их творчества, так и под воздействием личного общения, в том числе внутри одного литературного сообщества, примером которого является «Персона».
Романова Ирина Викторовна
доктор филологических наук, профессор
заведующая кафедрой литературы и журналистики
Смоленского государственного университета
Павлова Лариса Викторовна
доктор филологических наук, профессор, кафедры литературы и журналистики
Смоленского государственного университета
И. Л. Савкина (Тампере, Финляндия)
«Кому повем печаль свою?»: адресованность в дневнике обыкновенных людей (дневник Марии Германовой)
В докладе на примере анализа дневника сельской учительницы Марии Яковлевны Германовой (1922–1997) за период с 22 июня 1941 года по 14 января 1942 обсуждается проблема адресованности дневникового нарратива, который всегда находится на границе приватного и публичного. Одной из форм адресованности является обращенность к некоему отсутствующему и в то же время парадоксальным образом присутствующему Ты, которое является квинтэссенцией самой потребности в адресате. Другой важной формой адресованности является обращение к значимым для автора дневника Мы, референтным или экспертным группам признания с помощью воссоздания чужого слова, «голоса» гипотетического слушателя, потенциального носителя разделенной идентичности.
Для Марии Германовой, которая ведет дневник, находясь на оккупированной фашистами территории, главные значимые Мы -- это родовое деревенское Мы и Мы ”нашего культурного круга”, сообщества образованных подруг-учительниц. Но в то же время для Германовой никогда полностью не исчезает и адресат, который говорит на языке доминантного дискурса.
Таким образом в трудной ситуации дезориентированности и неопределенности Мария Германова пытается конструировать свою нарративную идентичность путем адресации, обращенности к разным Мы, к разным группам, (воображаемое) одобрение которых позволяет ей не потерять свое Я, каким бы противоречивым и ситуативно изменчивым это Я не оказывалось в процессе ”записывания себя”.
Савкина Ирина Леонардовна
канд филол. наук, доктор философии (PhD)
университетский лектор факультета информационных технологий
и коммуникаций Тамперского университета, Финляндия
Е. Г. Серебрякова (Воронеж)
Миф как элемент поэтики диссидентских текстов
Обращение к мифу можно считать универсальным приемом поэтики как официальной, так и неподцензурной советской литературы. При этом мотивы использования мифопоэтики разнятся.
Официальная литература, начиная с 1920-х годов, вводила мифопоэтические приемы для легитимации идеала коммунизма и нового культурно-антропологического типа – советского человека. Писатели активно разрабатывали мифологические сюжеты для конструирования образа советского Космоса: миф о создании нового мира («Как закалялась сталь» Н. А. Островского, «Поднятая целина» М. А. Шолохова), о победе над Временем («Время, вперёд!» В. П. Катаева), о едином пространстве Страны Советов (очеркисты В. А. Итин, А. И. Колосов, Я. Н. Ильин, И. И. Катаев, М. П. Лоскутов), о защитнике обездоленных и творце нового мироздания (исторические романы «Разин Степан» А. П. Чапыгина, «Емельян Пугачёв» В. Я. Шишкова, «Пётр Первый» А. Н. Толстого).
Обращение к мифу – частотный элемент поэтики диссидентских текстов. В мемуарах А. И. Солженицына «Бодался телёнок с дубом» (1965-1973 гг.) используется сюжет мифа творения с обязательной фигурой культурного героя, разрушающего старый миропорядок во имя нового. Действия культурного героя сознательны, целенаправленны, требуют особого умения и отваги, соответственно, получают статус подвига. Погружение в стихию борьбы происходит после овладения магической силой, в случае Солженицына – постижения тайны Слова. Публикация первого рассказа трактуется поэтому как инициация, а борьба с Твардовским за писательскую независимость как низвержение сакральной фигуры отца. Жизненный путь представлен как цепь «трудных задач», в ходе решения которых происходит подтверждение исключительной природы персонажа. Борьба со старым миром ведётся от имени всего рода-племени – советского народа. Герой олицетворяет собой интересы общины, противостоящей верховным правителям, и гармонизирует мир с человеческими потребностями, заботится о его устройстве для людей.
В очерке Л. И. Богораз «Об одной поездке» (1967 г.) разрабатывается сюжет катабасиса. Рассказ о поездке на свидание с заключённым мужем осмыслен как сошествие в ад. Традиционная в диссидентском дискурсе бинарность «свой» – «чужой» представлена в очерке оппозицией «живой мир» – «мёртвый». «Мёртвый мир» – зона и её обитатели, «живой» – пространство единомышленников, нонконформистское сообщество, сплоченное взаимопомощью и противостоянием идейным противникам. Рассказчица стремится осмыслить общие вопросы социального бытия, подвергнуть анализу противоречия общественной жизни, выявить процесс личностной деформации советского человека, обречённого на проживание в месте, где нет другого производства. Творческий труд, раскрывающий в личности потенциал её духовных возможностей, немыслим здесь не только для заключённых, но и для сотрудников лагеря и членов их семей. И если диссидентам психологически выстоять помогает сознание нравственной правоты своего дела, то тюремщикам всех мастей приходится служить антигуманному государству. Вынужденная включённость в бесчеловечную исполнительную систему разрушает сознание, опустошает душу. Рассуждения автора убеждают читателя в том, что политзаключённые нравственно превосходят своих охранников. Государство, прибегая к жестоким методам перевоспитания, может убить, но не способно сломить их волю.
Таким образом, миф в текстах Солженицына и Богораз играет смыслообразующую роль: определяет семантику произведения, задаёт эмоциональный тон и способы его восприятия. Публицисты наделяют фигуру борца с режимом сверхценным значением, оценивают его деяния как судьбоносные для страны. Идеалом целостного, гармоничного мира видится страна с иной государственной системой. Идеологический характер мифопостроений очевиден: диссидентский миф, как и официальный, должен утвердить общественно значимый идеал. Совпадение риторических приёмов неслучайно. Оно свидетельствует о принадлежности авторов официальной и неподцензурной литературы к одному культурно-антропологическому типу.
Серебрякова Елена Геннадьевна
доц. каф. истории философии и культуры
Воронежского госуниверситета
Е. В. Степанян-Румянцева (Москва)
Между живым и неживым. Маска и статуя как возможности портрета
1. Общеизвестны авторские замечания в романах Достоевского о маскообразности лиц Свидригайлова и Ставрогина. Общеизвестна и общепринята и интерпретация этих упоминаний. Маска дает нам представление о человеке, находящемся на грани миров, имеющем контакты с духовными сущностями, и к тому же внутренне мертвенном.
2. Одновременно это – персонажи, с которыми тут же начинают происходить интересные трансформации: маска приподнимается, затем и снимается («зверь показал когти», говорится о Ставрогине; саморазоблачения Свидригайлова, после первого знакомства с ним, идут и идут по нарастающей). Иначе и быть не может. Достоевский – создатель динамического портрета, и даже эти его персонажи причастны движению. Эти герои тоже динамичны, хотя им свойственна минус-динамика. Отсюда – снятие масок как процесс. Их жизнь ложна и устремлена к смерти.
3. Гораздо интереснее и многоплановее такое качество персонажей Достоевского как их «статуйность». Классический пример – оцепеневший Ставрогин на грани между дремой и каталепсией, каким его видят другие герои. Статуйность как застылость, как неподвижность, недоступность для контакта («Иван – сфинкс», говорит о среднем брате «горячее сердце» Митя Карамазов).
4. Достоевский, разумеется, не первооткрыватель и не завершитель темы статуи и ее параллельного с человеческим существования (тема, развернувшаяся в русской литературе от Пушкина до Бродского). Однако новизна подхода Достоевского в том, что величественность и торжественность «статуйной» темы у него то и дело оборачиваются гротеском. Анна Андреевна из «Подростка» сравнивается одним из героев с «древней статуей, только ходит и современное платье носит». Но это сравнение гротескно: величавая и замкнутая героиня бросается в постыдную авантюру, кончающуюся провалом и позором.
5. Неслучайно в черновых записях Достоевского описание статуи завершается словом «задница», написанном аршинными буквами. Импозантность статуи Венеры в гостиной Настасьи Филипповны («Идиот») гротескно дублируется фигурой безмолвно сидящей в этой же гостиной красавицы немки, играющей роль какого-то аксессуара.
6. При этом Достоевский не проходит мимо темы «грозной статуи», вторгающейся в человеческую жизнь. Венера как бы требует себе жертвы, и ею становится Настасья Филипповна (о ней мертвой говорится, что «кончик ножки у нее был как выточенный из мрамора»).
7. Можно предположить, что разработанная Пушкиным тема статуи во всем ее совершенстве, трагизме и многозначительности, приобретает у воспринявшего ее Достоевского абсолютно новые и неожиданные черты, − гротескность, карикатурность.
Степанян-Румянцева Елена Владимировна
доцент кафедры литературы Московского государственного института культуры»
к. ф. н. Редактор альманаха «Панорама искусств»
И. З. Сурат (Москва)
Осип Мандельштам и Николай Бруни
Николай Александрович Бруни (1891-1938) – поэт, прозаик, пианист, художник, скульптор, летчик-испытатель, воин, священник и священномученик, переводчик, авиаконструктор. Репрессирован в 1934-м году, приговорен к 5 годам лагерей, вторично осужден и расстрелян в лагере 1938-м. Николай Бруни и Осип Мандельштам учились вместе в Тенишевском училище – с этих времен жизни их то шли параллельно, то пересекались в важных точках.
Николай Бруни принял участие в одном из значимых событий в жизни Мандельштама, получающем самые противоречивые оценки у мандельштамовских биографов: в мае 1911 года он вместе с Мандельштамом поехал в Финляндию и выступил свидетелем на таинстве крещения, принятого поэтом в методистской церкви города Выборга. Подпись Николая Бруни стоит на выданном Мандельштаму свидетельстве о крещении, она идентична подписям Бруни на его поэтических автографах и документах, хранящихся в РГАЛИ. Этот факт не учтен и не осмыслен исследователями, между тем изучение личности и дальнейшей судьбы Николая Бруни позволяет утверждать: его участие в крещении Мандельштама было неслучайным, и это по-новому освещает и интонирует само событие.
Второй эпизод биографии Мандельштама, в котором можно предположить если не участие, то влияние Николая Бруни, – поездка в декабре 1914 года в Варшаву с целью устроиться санитаром в военном госпитале. Незадолго до этого санитаром в варшавском госпитале работал Николай Бруни, описавший свой опыт в «Записках санитара-добровольца», опубликованный в декабрьском номере «Нового журнала для всех» за 1914 год.
В дальнейшей биографии Мандельштама и Бруни было немало точек соприкосновения и параллелей, жизни их оборвались почти одновременной гибелью в лагере в 1938 году.
Сурат Ирина Захаровна
доктор фил. наук, ведущий научный сотрудник
Института мировой литературы РАН
О. Е. Фролова (Москва)
Феномен устного рассказчика (А.Ю. Герман)
Качества рассказчика в нетерминологическом литературоведческом употреблении, т.е. «того, кто рассказывает что-л.» [БТС 2000] отражают и профессию, и личность говорящего. Как правило, говорящий обращается к прошлому, изображая различные ситуации и сцены, чередуя изобразительные и неизобразительные фрагменты. Критерием мастерства считается интерес аудитории при непосредственном общении и популярность мемуаров автора.
Мы намереваемся показать, каким образом строит свою речь режиссер Алексей Герман, считавшийся по признанию многих современников выдающимся рассказчиком. В качестве материала нам послужила книга А.Долина, представляющая собой расшифрованные интервью режиссера и ответы на вопросы критика [Герман 2015].
Среди качеств рассказчика, которые позволяет выявить анализ текста, отметим: лишенную эвфемизации оценочность, визуализацию, контрастный монтаж, игру модальностями, сокращение дистанции между адресантом и адресатом.
Об отце.
(1) Он был на вершине славы. Его в начале 1930‑х поставил Мейерхольд – и, хотя Мейерхольда уничтожили, шлейф тянулся. Он написал сценарии нескольких картин, одна из них называлась «Семеро смелых».
А началось все, когда он сидел в парикмахерской. К нему вошел его пожизненный друг Лева Левин и сказал: «Ты тут сидишь, дурак, и не знаешь, что на тебя свалилась слава!» И протянул ему газету, где был абзац Горького – мол, из этого человека может получиться хороший писатель. Папу пригласили к Горькому. Он жил у Горького, тот учил его писать.
В монтажном стыке неизобразительный и изобразительный фрагменты, последний конкретно локализован во времени и пространстве, а также включает прямую речь приятеля Юрия Германа.
Об автобиографичности фильма «Хрусталев, машину».
(2) В «Хрусталеве» я решил представить, что было бы со мной, если бы папу посадили, а нас с мамой переселили бы в коммуналку. Это фантазия, сон, наш ужас. В этом страшном сне мы были достаточно беспощадны к самим себе, и к любимой моей матушке, и к бабушке… Вы же понимаете, что я не был стукачом, что это фантазии. Мама была из очень богатой купеческой семьи, и она вряд ли смогла бы такое пережить. Но, естественно, я не мог написать себя хорошим. Тогда мы придумали, что мальчик будет доносить на папу. Этого никогда не было! В отличие от ситуации с Линдебергом – тем шведом, который возникает в начале фильма.
А возник он следующим образом. Мы с Андреем Мироновым выступали в Финляндии, куда ездили с «Лапшиным». Я выхожу к набитому залу и говорю: «Здесь, в Хельсинки, преподавал в университете русскую литературу Сергей Александрович Риттенберг. У него был друг по профессии Линдеберг. Мне очень важно получить о нем хоть какие‑то сведения. Например, портрет». Я знал, как пьяный Линдеберг приходил к нам домой, но не помнил, как он выглядел. Когда я пришел в гостиницу, там меня ждал брат Линдеберга, который отдал мне огромную пачку писем – переписку Линдеберга и Гули, как у нас в семье называли Сергея Александровича – моего дядю.
Здесь рассказчик описывает несуществующую ситуацию, оформленную как модальность нереализованной возможности. Далее говорящий уточняет модус: страшный сон, фантазия. Монтажное соединение описания фильма и упоминания матери контрастирует с изобразительным фрагментом, в котором описывается реальная ситуация встречи с другом семьи. Отсутствие номинативного конвоя при имени собственном уменьшает дистанцию между отправителем и получателем.
Литература:
Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000.
Герман Интервью. Эссе. Сценарий. Книга А. Долина: М.: Новое литературное обозрение, 2015.
Фролова Ольга Евгеньевна
д.ф.н., зав. лабораторией фонетики и речевой коммуникации
филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Г. Г. Шеянов (Москва)
На границе культур (маргинальные аспекты священнического служения в Российской Империи)
Культурные традиции дворянства и чиновничества, ставшие «титульной» культурой Российской Империи, долгое время не оказывали существенно влияния на традиционную культуру крестьянства. Государство осознавало отсутствие эффективных рычагов влияния на мировоззрение и быт крестьян, и активно использовало для этой цели сельских священников. Оказавшееся на границе двух (относительно закрытых для взаимного проникновения) культур, приходское духовенство вынуждено было играть роль своеобразного посредника между ними. Задачей моего доклада будет проверка этого достаточно известного и обоснованного тезиса на фактическом материале, представленном в документах Нижегородской Духовной Консистории. Мной были просмотрены описи архивных дел Консистории с 1840 по 1865 год с целью поиска документов, предписывавших священнослужителям употреблять свое влияние на крестьян для проведения различных установок светской власти (напрямую не относящихся к религиозным и этическим вопросам). Не рассматривались многочисленные документы, посвященные обучению крестьян грамоте.
Был выявлено 18 архивных дел, заведенных по случаю издания соответствующих указов консистории; и не менее 10 дел, так или иначе связанных с исполнением этих указов. По содержанию предписаний их тематику можно разделить на общественно-политическую и бытовую. Указы, предписывавшие священникам разъяснять крестьянам политические события, были встречены мною лишь дважды за 25-летний период (причем один из них посвящен такому экстраординарному событию, как государственное ополчение 1855 года). Указы «бытового» содержания главным образом касались сельскохозяйственной и медицинско-гигиенической и тематики; в последней группе на ведущем месте стоит тема привития оспы (предписания о содействии оспопрививанию составляют 1/3 от общего количества выявленных документов). Другие «околомедицинские» указы Консистории касались наставлений о вреде сырой соленой рыбы и содействия в исполнении «Врачебных наставлений для государственных крестьян». Земледельческие предписания заключались в «содействии распространению сельскохозяйственных знаний», увещаниях о пользе разведения картофеля или высевания кормовых трав.
Запросы на привлечение духовенства чаще исходили от Министерства Государственных Имуществ и его подразделений (Департамент Сельского Хозяйства, Нижегородская Палата Государственных Имуществ), реже от других (менее весомых) учреждений — Императорского вольного Экономического Общества, Нижегородского Военного Губернатора, Губернского Оспенного Комитета. В тех случаях, когда светские чиновники считали нужным обосновывать претензии на участие священнослужителей, они обычно ссылались на плохое исполнение простым народом своих предписаний и на особые возможности сельских священников, «имеющих, по сану их, особое доверие крестьян». Изредка встречались и прямые указания на маргинальное положение сельского духовенства, которое «может служить лучшим посредником между наукою и поселянами». Единственный раз мне встретилось правовое обоснование подобных практик — ссылка на государственный закон, обязующий священников произносить проповеди о пользе оспопрививания (том XIII Свода Законов 1842 года издания, статья 608). Часто встречались красноречивые пассажи об общественной пользе упоминаемых инициатив светской власти.
Практические методы воздействия на крестьян чаще всего оставлялись на усмотрение священников, о чем свидетельствовали такие общие фразы консисторских указов, как «учинить убеждение прихожан» «содействовать исполнению благоразумными внушениями», «при случаях объяснять поселянам» и т.п. Прямые указания употреблять в этом деле церковную проповедь встречались редко (в качестве такого примера может быть приведен упомянутый выше законодательный акт, предписывавший «под опасением гнева Божия вперять прихожанам своим мысль, что не употреблять испытанных и известных уже предохранительных и целебных пособий в свою или ближних своих пользу по одному предразсудку, упрямству или небрежению, значит отягощать совесть свою тяжким преступлением сопряженным нередко с самым человекоубийством»). Намного чаще встречались предписания воздействовать «внушениями и собственным примером», причем иногда этот «собственный пример» прописывался в указах довольно конкретно (как «посев картофеля у себя на огородах, а в случае возможности, даже на церковной земле», или «призывание оспопрививателей к своим детям»).
Мотивировка священников к исполнению подобного рода предписаний описывалась в терминах мягкого принуждения или поощрения. Документы, исходившие от светских ведомств, обычно (хотя и не всегда) содержали более мягкие мотивирующие формулировки: «обратиться с просьбою», «предложить», «пригласить сельских священников к содействию». Иногда (в конце рассматриваемого временного периода) в такого рода документах даже подчеркивалась желательность добровольного («непринужденного») участия духовенства. Издаваемые же вслед за подобными «просьбами» указы Святейшего Синода обычно использовали более императивную форму «предписать», в более поздние годы иногда заменявшуюся нейтральным «дать знать». Рапорты благочинных, отчитывавшихся консистории об исполнении её указов, содержали самые разные формулировки — от достаточно жестких («вменить в непременную обязанность») до очень мягких; но преобладали в этих документах нейтральные канцеляризмы. Практически единственным методом принуждения священников к выполнению указов было «взятие подписки» (особенно распространенное в начале рассматриваемого периода). Какие-либо механизмы контроля или дисциплинарного воздействия на священников за невыполнение взятых по подписке обязательств в найденных мной указах не оговаривались. Не удалось обнаружить и случаев наказания духовенства по подобным поводам, за исключением удаления с прихода одного священника, «допустившего истолкование крестьянами положения о Государственном ополчении, как способа освобождения от помещика». Альтернативные методы мотивации заключались в обещании административных и материальных поощрений (денежных премий) священникам, «особо отличившимся» в деле приведения в жизнь упоминаемых в соответствующем указе инноваций.
К сожалению, консисторские архивные дела практически не содержат сведений об обстоятельствах исполнения данных указов, о реакции на них духовенства и крестьян. В одном из документов был описан случай негативной реакции приходского священника на полученный указ об оспопрививании, но эта история составляет исключение и была приведена благочинным лишь в оправдание за утрату подписного листа («священник Гаврилов оныя подписки, неизвестно с какою целью, но намеренно, все исчеркал и измарал чернилами, и показывая сии морушки Николаеву, сказал «смотри, как я мараю подобныя предписания»»). Как правило, обстоятельства такой встречи культур не интересовали консисторскую бюрократию и никак не отражалось в ее документообороте. Исходившие от некоторых светских ведомств пожелания наладить обратную связь («предложить сельскому духовенству сообщать свои наблюдения по сельскому хозяйству, откровенно указывая на недостатки и нужды его») оставались делом личного усмотрения священников.
Несмотря на формальный и односторонний характер информации, содержащейся в делах консистории, она всё же позволяет сделать некоторые выводы. Фактические данные выдерживают и частично подтверждают изложенный выше тезис о существовании среди подданных Империи двух различающихся культурных групп, и о «пограничном» положении сельских священников в этой системе координат. Налагаемые на священников функции проводников культурного влияния между этими группами, вероятно, не составляли тяжелого бремени и могут рассматриваться как маргинальная часть повседневных обязанностей духовенства.
Шеянов Григорий Геннадьевич
кандидат медицинский наук
А.. А.. Шиян (Москва)
Являются ли тексты Гуссерля по философии науки маргинальными?
Проблемой обоснования научного знания Эдмунд Гуссерль занимался на протяжении всего своего творчества. Однако гуссерлевский проект не получил значимого продолжения в философии науки ХХ века и многими современными философам науки считается маргинальным.
Наша задача – прояснить основания забвения феноменологической философии науки и показать, в каком отношении ее маргинальность может быть преодолена.
На мой взгляд, главная причина неуспеха феноменологической философии науки – это незавершенность и непроясненность гуссерлевского проекта трансцендентальной феноменологии. Для того чтобы с этим разобраться и показать перспективы развития феноменологической философии науки я выделяю три варианта обоснования науки у Гуссерля.
В рамках 1-ого варианта обоснования науки речь идет о «возвращении к жизненному миру», что для Гуссерля означает рассмотрение того, как современное естествознание и математика возникает из повседневного практического опыта. Речь идет о процедуре идеализации, то есть возникновения научной идеальной предметности из жизненного мира (См. «Начала геометрии», «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология»).
Однако сам Гуссерль не считал этот вариант обоснования наук основным и практически его не развивал. Для него самого более важным выступал второй вариант обоснования науки. В «Кризисе европейских наук и трансцендентальной феноменологии» Гуссерль подчеркивает, что жизненный мир Нового времени – это мир, уже отягощенный результатами научной деятельности, поэтому он не является подлинным и изначальным жизненным миром. Для прояснения оснований науки по Гуссерлю необходимо вернуться к изначальному жизненному миру, тому, каким он был в раннегреческой цивилизации. Но дело в том, что по Гуссерлю сам изначальный жизненный мир, даже мир раннегреческой цивилизации, тоже является непроясненным и требует своего обоснования, которое можно осуществить, лишь обратившись к трансцендентальной субъективности, которая его конституирует (в данном случае это синоним «создает»). Этот ход, безусловно, уводит далеко в сторону от задач философии науки.
Третий вариант обоснования науки можно выделить у Гуссерля, если мы обратимся к творчеству Гуссерля раннего и среднего периода. В Первой книге «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии»[7] Гуссерль утверждает, что изначальная цель науки – прояснение и объяснение окружающего нас мира естественной установки, который нам дан в созерцании, то есть непосредственно. Наука Нового времени забыла свое истинное предназначение, так как ее развитие было обусловлено утилитарными и прикладными целями. Науки превратилась в техне, в виртуозное искусство вычислений, и это для Гуссерля означает погружение в кризис. Для преодоления своего кризиса новоевропейская наука должна вернуться к своему изначальному смыслу. Для этого она должна использовать весь свой математический аппарат для объяснения жизненного мира, мира наших чувственных созерцаний. И это задача, в определенном смысле, актуальна для нас сегодня.
В заключении можно сделать вывод, что из трех вариантов обоснования науки, найденных у Гуссеря, на наш взгляд, актуальными и перспективными для сегодняшнего дня являются первый и третий: исследование происхождения научных идеализаций из повседневного опыта и функция науки для объяснения окружающего мира.
Шиян Анна Александровна
к. филос. наук, доцент кафедры истории отечественной философии
философского факультета РГГУ
Т. А. Шиян (Москва)
О различении философии и науки: примеры аргументации от разделения труда в «Соперниках» Псевдо-Платона и в «Основоположении к метафизике нравов» Канта
В «Соперниках» Псевдо-Платона (на протяжении многих веков этот диалог приписывался Платону, сейчас считается, что он написан кем-то из учеников Академии в середине – второй половине IV или в начале III в. до н.э.) и в «Основоположении к метафизике нравов» (1785) Канта можно найти пример схожего аргументативного приема, направленного на обоснование самостоятельности, независимости собственно философии (в понимании автора каждого из текстов) от другой формы духовной культуры, которую в каждом из случаев можно до известной степени соотнести с наукой (насколько в каждую из двух эпох вообще можно говорить о науке). В обоих случаях аргументация носит совещательный характер, то есть вывод является указанием на то, как должно поступать, а чего делать не нужно. И для обоснования своего вывода и перехода от описания к предписыванию оба автора обращаются к одному и тому же культурному топу, который можно сформулировать так: «чтобы достигнуть мастерства в некотором деле, необходимо заниматься только им; кто же совмещает несколько занятий, тот никогда не будет достаточно искусен ни в одном из них».
В античности помимо «Соперников» (135e1–136a4) мы находим это представление о роли разделения труда не только у Платона (Государство, кн. II, фр. 369b–374d; Законы, VIII, p. 846d – 847b), но и у Фукидида (История Пелопонесской войны, I, 142), Исократа (Бусирис, 16–17), Ксенофонта (Киропедия, II, 1, 21). В Новое время помимо данной аргументации (Предисловие к «Основоположению к метафизике нравов» в: Иммануил Кант. Сочинения в 4-х тт. Т. 3. М., 1997. С. 42–45) Канта аналогичные представления находим в его лекциях по Антропологии (например, среди фрагментов, переведенных на русский, в приложении к Круглов А.Н. Кант и кантовская философия в русской художественной литературе. М., 2012. С. 413, 414, 418). Чуть позже эта тема в различных вариациях достаточно часто поднимается Гёте в устных беседах с Эккерманом («Разговоры с Гёте» Эккермана, записи за 24–26 февраля, 30 марта 1824 и 20 апреля 1825; в последних и сам Эккерман развивает эту тему, применительно к творчеству Гёте). (Адам Смит изменяет акцент с повышения качества труда на повышение его скорости. Гегель же в §198 «Философии права» указывает на повышение как качества, так и скорости.)
Между построением аргументации в обоих текстах имеются и различия. Во-первых, это касается их практических выводов-рекомендаций-пожеланий-требований. Автор «Соперников» приходит к выводу, что для успешных занятий философией необходимо не тратить время на изучение всяческих других знаний и умений, не относящихся к единому и единственному предмету философии. С учетом того, что этот диалог направлен против аристотелевской концепции образования (см. Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли. М., 2002. С. 20), критикуемая в нем полиматия (многознание) может пониматься здесь как науки). Позиция Канта в чем-то дуальна. В ситуации зарождающегося позитивизма он вынужден защищать «чистую философию», ее право на существование и собственные методы. Соответственно, тезис-требование Канта состоит в том, что те, кто занимается эмпирическими исследованиями (в контексте того времени – зарождающимися эмпирическими науками), обязаны (Кант пишет о полезности издания соответствующего предписания-запрета) не вмешиваться в дела чистой философии. Таким образом, оба автора пишут об отделении собственно философии от «науки» (каждый в контексте своего времени) и о вредности для философии и философов их смешения, но автор «Соперников» – о вредности для философов заниматься «науками», а Кант о вредности для философии, когда «ученые» лезут в ее дела.
Различия имеются и в способах развертывании аргументации и применения топа о разделении труда. Проще построена аргументация Канта. Занятия эмпирическими и рациональными (теоретическими) исследованиями требуют разных навыков и талантов. Соответственно, если исследователь специализируется на эмпирических исследованиях, то он (в силу указанного топа о разделении труда) не обладает достаточными навыками для рациональных, теоретических исследований и, следовательно, не должен никак в них вмешиваться.
Более сложно устроена аргументация автора «Соперников». Вначале он борется с пониманием философии как особой формы многознания (полиматии). Именно здесь применяется топ о разделении труда: получается, что философ является полным дилетантом, поскольку, согласно этому топу, будет во всем вторым (по сравнению со специалистами в каждом из отдельных дел). Но такое понимание философии не приемлемо для автора «Соперников» – философия наилучшее и наиполезнейшее из всех занятий. Соответственно, понимание философии как всесторонней образованности (формы полиматии) не верно. (Здесь применено рассуждение, известное как сведение к абсурду.) Но если так, то философия имеет только один предмет (в диалоге предметом философии объявляются совпадающие между собой справедливость и рассудительности, а сама философия отождествляется с искусством управления (государством, домом, рабами)). Из примененного ранее топа о разделении труда также следует, что стремящиеся к мастерству в философии должны не отвлекаться на другие предметы («науки»).
Таким образом, оба примера аргументации имеют общие черты – защиту философского ядра от его размывания нарождающимися науками и использование для этого ссылок на некоторые явления, связанные с разделением труда. Но и в конкретной логической форме аргументации, и в конкретных итоговых практических требованиях имеются определенные различия.
Шиян Тарас Александрович
канд. филос. Наук, Фонд «Центр гуманитарных исследований»
старший научный сотрудник
Е. Я. Шмелева, А. Д. Шмелев (Москва)
Толковый словарь под редакцией Д. Н. Ушакова: орудие пропаганды или адекватное описание языка советской пропаганды?
В докладе рассматриваются «идеологически нагруженные» словарные статьи «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (словарные статьи таких слов, как компромисс, примиренчество, примиренец, соглашатель и др.), а также некоторые словарные статьи, рассмотренные раньше в книге Н. А. Купиной. Обсуждается также идеологическая правка ряда статей первого тома, в частности рассмотренная М. И. Шапиром правка таких словарных статей таких слов, как донос, государство, культуртрегер в издании 1935 по сравнению с первым изданием 1934, а также сходная правка в последующих советских толковых словарях (напр. словарных статей слов космополит и космополитизм в словаре С. И. Ожегова по сравнению с толковым словарем под редакцией Д. Н. Ушакова). Ставится вопрос, следует ли трактовать это как использование нормативного словаря в целях пропаганды или же точнее говорить о том, что словарь дает беспристрастное описание того, как соответствующие единицы используются в советском пропагандистском языке. Делается вывод, что указанные трактовки не противоречат одна другой.
Шмелев Алексей Дмитриевич
доктор филологических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет
Шмелева Елена Яковлевна
кандидат филологических наук, ИРЯ РАН, ведущий научный сотрудник
Института русского языка РАН им. В.В.Виноградова
* * *
II. Дополнительный список тезисов (из опоздавших)
Е.В. Урысон (Москва)
Семантика и структура полисемии русского слова культура
(русское языковое представление о культуре)
Цель работы – описать структуру полисемии русского слова культура и его основные значения и употребления. Такое описание позволит выявить основные представления о культуре, закрепленные в русском языке, в том числе и лингвоспецифичные. Основное внимание будет уделено лингвоспецифичным значениям и употреблениям слова культура. При этом будет продемонстрировано, что структура полисемии этого слова вполне системна: логические переходы от одного значения (употребления) слова культура к другому относятся к регулярным.
Урысон Елена Владимировна
д.ф.н., ИРЯ РАН, гл.н.с.
Борис Беленкин (Москва)
Увещевание как способ
В предполагаемом сообщении представлены различные практики (как со стороны агитпропа, так и частные инициативы) противодействия антисемитизму на разных этапах истории СССР (1920-е–1950-е годы). Рассмотрены три совершенно разных примера/случая попытки воздействовать словом – в первых двух случаях на массовую антиеврейскую/антисемитскую среду, в последнем – на одного конкретного антисемита. В основу сообщения легли три текста: листовка, выявленная автором сообщения в ходе подготовки выставки, посвященной жертвам антиеврейских кампаний в СССР, озаглавленная «Три еврея» (выпущена Подольским гувоенкомом в 1920 году), первая полоса газеты «Пионерская правда» (февраль 1929 года) и письмо С.П. Писарева Сталину (январь 1953 года). Апелляция к образу трех «светочей» человечества – Христу, Марксу и Троцкому предназначалась, скорее всего, для «погашения» предпогромных настроений на территориях перешедших в ходе Гражданской войны под контроль красных... «Пионерская правда», включившись в достаточно заметную «анти антисемитскую» кампанию советского агитпропа эпохи 1928/29 гг., примерами вопиющих проявлений детского и подросткового антисемитизма пытается воздействовать на своего юного читателя… Правдоискатель и борец с несправедливостью, будущий диссидент Сергей Петрович Писарев (сын донского казака, бывший убежденный большевик, подвергшийся репрессия в конце 1930-х гг, отпущенный на свободу во время «бериевской оттепели») пытается доказать лично товарищу Сталину опасность, вред антисемитизма, проникшего во властные структуры… Все три документа – уникальные по форме и содержанию свидетельства протеста против антисемитизма в СССР. Как и следовало ожидать, во всех трех случаях увещевание оказалось безрезультатным.
Борис Беленкин
Международный Мемориал, Москва
М. Михеев, Л. Эрлих, М. Орлова
(Москва)
Об одном способе различения «маргинальных» и «магистральных»
текстов[8]
1. Вероятно, всякий писатель имеет право написать текст, не похожий на самого себя, т.е. своего автора. Из этого эмпирического правила имеются исключения, но о них наверно стоило бы поговорить особо: Пушкин, Гоголь, Набоков… – их мы условно называем уравновешенными [а точнее, может быть, – излишне уравновешенными?], тогда как все-таки основная масса, как представляется, должна оказаться именно в группе неуравновешенных, имея на это свое (авторское) право, иначе говоря – право на своего рода определенную "расхлябанность", нетемперированность отдельных текстов. Именно таковы, как получается из наших подсчетов, – незаконченная повесть "Неточка Незванова" у Достоевского, ранний роман Гончарова «Иван Савич Поджабрин», а также романы "Мать" Горького и "Белая гвардия" Булгакова, сборник «Донские рассказы» у Шолохова и еще многие крупные тексты (и сборники текстов) многих писателей... А мелких по объему (рассказов, новелл, очерков) мы здесь вообще не касаемся. Вот, например, если в целом все тексты, составляющие «Записки охотника» вполне вписываются в идиостиль Тургенева, то, когда мы разбиваем сборник на отдельные рассказы и очерки, многие из них из Тургеневского идиостиля выпадает! Здесь нижней границей, дальше которой опускаться уже опасно, чувствительной к непредсказуемым флуктуациям в отклонениях частот, является объем текста в 20-10 тысяч слов. Однако при этом остальные крупные произведения автора вполне укладываются в его идиостилистику – соответственно в идиостили Достоевского, Гончарова, Горького, Булгакова, Шолохова… да и Тургенева.
2. Но что вообще значит, что некий текст Х "не похож" на текст автора А? В нашем словоупотреблении это означает, что частоты употребления наименее заметных слов – именно служебных (т.е. предлогов, союзов, частиц, местоимений, дискурсивных слов, наречных групп итп. текста Х) – не укладываются в идиостиль писателя А, оказываясь более похожи на идиостиль уже какого-то другого, например, автора Б. Да, ну, а что же такое идиостиль? Для нас это просто набор средних частот употребления тех самых предложных групп, союзов, частиц, местоимений, дискурсивных слов итд.: их все мы объединяем под общим названием скреп, или же идиостилистических скреп (сейчас их у нас в обработке около 600). Иначе говоря, идиостиль – это набор средних частот, подсчитанных по всем скрепам во всех основных произведениях автора, и для того чтобы сравнить идиостили автора А и автора Б, надо сравнить частоты каждой из 600 скреп того и другого.
3. Когда же вдруг оказывается, что к сумме частот всех скреп в произведении Х ближе всех не его титульный автор А, а кто-то другой, скажем, Б (в нашем обсчете участвуют два десятка основных писателей русской литературы 19-20 вв. и в общей сложности около тысячи различных их текстов: если еще увеличить масштаб нашей «сетки», вероятность ложного попадания текста Х в орбиту автора Б естественно будет увеличиваться), то это означает, что текст Х не укладывается в идиостиль автора А. Отчего такое бывает возможно? – То ли оттого, что при написании своей "Неточки..." Достоевский, скорее всего совершенно бессознательно, использовал чьи-то чужие, не устоявшиеся еще для него самого, речевые шаблоны в употреблении скреп (его повесть так и не была закончена, хотя и была отдана в печать самим автором); то ли потому, что Гончаров своего «…Поджабрина» не считал еще вполне серьезным произведением, а почитал за некую пробу пера, предназначив для семейного рукописного журнала (где тот и был первоначально издан); то ли потому, что Горький в "Матери", написанной после революции 1905 года, хоть и не в первый раз взялся за жанр романа (первым, еще в 1901 г., был вышедший его роман «Трое»), но по сути, только в «Матери» он по-настоящему дебютировал в жанре романа – именно с характерным для себя «протестным» содержанием по отношению к порядкам современной ему России; то ли потому, что для Булгакова "Белая гвардия" и в самом деле была его первым романом; ну, или же потому, что «Донские рассказы» также были первыми печатными опытами молодого Шолохова – в отличие даже от спорной части «Тихого Дона», которая ничем, как будто, уже не выделяется среди «магистральных» текстов Шолохова, т.е. укладываясь внутрь его идиостиля, по нашим частотным показателям, в отличие от не влезающих в него «ДР»…
4. Логичны, естественно, и следующие за этими вопросы: ну, а на кого же более всего похож, собственно, на чей идиостиль, тот текст, который оказывается по нашим подсчетам у данного автора маргинальным? Для перечисленных выше случаев, во-первых, если мы говорим о «Неточке Незвановой» Достоевского, то – на Льва Толстого; во-вторых, для Гончаровского «… Поджабрина» – это уже Лермонтов; в-третьих, для Горьковской «Матери» – Федор Крюков; в-четвертых, для «Белой гвардии» Булгакова – как ни странно, Платонов; а в-пятых, для «Донских рассказов» Шолохова – Алексей Толстой… Но даже и названные только что авторы-«конкуренты» титульных авторов вовсе не уникальны: так, вместе с лидирующим по минимальности отклонений первым конкурентом Гончарова Лермонтовым вслед за ним, но также с опережением титульного автора идет Тургенев…
В докладе будут разобраны конкретные примеры скреп, из-за которых по крайней мере на фоне остальных тексты титульных авторов выглядят внутри идиостилей их титульных авторов неуравновешенными: например, одиночный союз И, изъяснительно-изъявительный ЧТО и др.
Литература
Михеев М.Ю., Эрлих Л.И. Идиостилевой профиль и определение авторства текста по частотам служебных слов // Научно-техническая информация. Серия 2. 2018, № 2 – С. 25-34.
Морозов Н.А. Лингвистические спектры. НОВОЕ ОРУДИЕ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНИХ ДОКУМЕНТОВ. (Лингвистические спектры, как средство для отличения плагиатов от истинных произведений того или другого известного автора и для определения их эпохи) [Основная часть этого этюда была помещена в Известиях Академии Наук, т. XX (1915 г.), кн. 4] // www.textology.ru/library/book.aspx?bookId=1&textId=3
Михеев Михаил Юрьевич
д.филол.н., внс НИВЦ МГУ
Эрлих Лев Исаакович
программист лаборатории информационных систем
НИВЦ МГУ имени
М.В. Ломоносова
Орлова Мария Владимировна
магистрантка филологического фак-та МГУ им. М.В. Ломоносова
лаборант ИЯз РАН